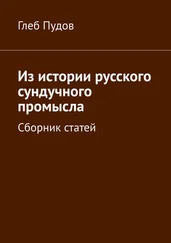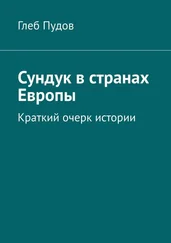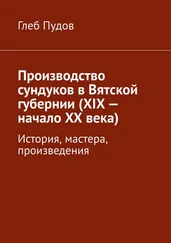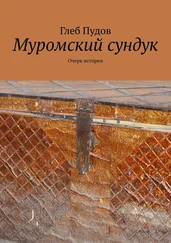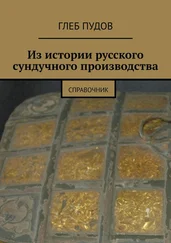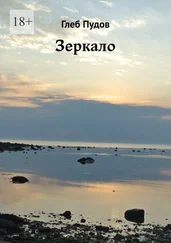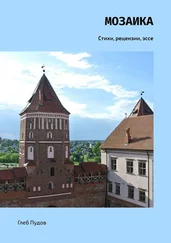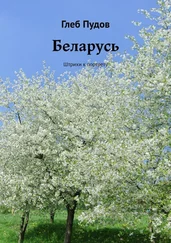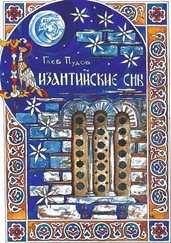Помню, мое детское раздражение от тех событий порождалось простым непониманием причины подобного человеческого поведения. Я не понимал, почему именно я становлюсь мишенью. Позднее я осознал и это. Но о нем в следующем разделе. Здесь же остается добавить, что благодаря приобретенному фатализму мое сознание смирилось с фактом постоянных детских унижений (уже тогда оно остро воспринимало все описанные ситуации именно как унижение), поняло причину многих сегодняшних комплексов. То, на что оно старалось закрывать глаза тогда, сегодня возвращается к нему в раздобревших масштабах. Как это ни странно, осознание этого укрепило мою жизнеспособность. Сегодня я благодарен тому циркачу. Он не только привил иммунитет к подобным людям, но и задал нижнюю границу в моей шкале внутреннего развития человека.
Как я изучал атомную энергетику
Несмотря на описанные школьные ужасы, сегодня я не могу однозначно негативно оценить мое пребывание в том заведении. Были и думающие дети. Их было мало. Общение с ними доставило мне много удовольствия. К тому же воспоминания об «Артеке», в который я был неожиданно отправлен администрацией школы за неизвестные заслуги, гасили любую ненависть при мысли о непромытой классной доске, больших окнах, глядящих на свободу, привычно кричащих одноклассниках.
После окончания школы я попал в специальное учебное заведение, гордо именовавшееся поначалу «Белоярский энергетический техникум» (БЭТ), затем оно было повышено в чине, и стало называться «Белоярский политехнический колледж». С тех пор заведение поменяло множество вывесок, но суть осталась та же. В Заречном, где оно дислоцировалось, существовала поговорка «Ума нет – иди в БЭТ». В целом она точно отражала контингент учащихся и царившую там атмосферу. В техникум местные родители обычно отправляли тех своих чад, насчет умственных способностей которых не питали иллюзий. Вынужден с прискорбием сообщить, что и я оказался в кругу избранных. Прогнувшись под железной волей родителей, я окончил техникум, но пребывание в нем не оставило сколько-нибудь заметных следов в моем сознании. Я помню только колоссальных размеров чертежи, в которых я понимал меньше, чем капитан Кук в языке аборигенов. Благосклонная судьба не наказала меня за нелюбовь к иностранным языкам. Вспоминаются также два несчастных вольтметра, павших жертвой моей некомпетентности. Именно им я обязан мыслью о своей полной профнепригодности на ниве атомной энергетики. Следствием этой находки стало желание изменить профессию.
Акт 2. Границы расширяются
Город Екатеринбург, ощущающий себя столицей Урала, находится приблизительно в 50 километрах от того «муниципального образования», где жил я. А в центре его располагался (и сейчас, слава Богу, располагается) университет, где я хотел учиться. Родители уже не скромничали, когда речь заходила о талантах их младшего сына. Сын не грешил этим с детства. К тому же я получил право голоса в вопросах определения собственной судьбы. Было решено «пытаться». Попытался – поступил. Так, подобно древнерусскому Китоврасу [12] Китоврас – мифическое существо древнерусских апокрифов. Название его считают происшедшим от греческого слова – «кентавр».
, скачущему сразу на семь верст, я очутился в стенах весьма уважаемого высшего учебного заведения.
Птица, улетевшая из тесного гнезда, узник, вырвавшийся на волю, солдат, отпущенный домой после 25 лет службы, поняли бы чувства, охватившие меня в момент прибытия в этот большой город. Полное название учебного заведения, с которым я связал свою судьбу, – Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Вывеска факультета (цитирую): «Факультет искусствоведения и культурологии».
Новый город, новые люди, новые обстоятельства.
Мои сокурсники представляли весьма разношерстную массу. Большинство еще помнило вкус школьного мелка. Некоторые пришли из художественных училищ. У других были за плечами художественные школы. Техникума атомной энергетики не было ни у кого.
Охарактеризую вкратце некоторых студентов.
Например, Андрей В. Это был очень беспокойный человек. Постоянно носящийся по коридору с взлохмаченными волосами, часто – с кучей толстых книжек под мышкой, он напоминал мне Андрея Белого (в ту пору я читал литературные воспоминания). В. был талантлив. Спектр его интересов был очень широк: история религий, фехтование и проч. Общительность его не знала пределов, поэтому круг друзей (скорее, знакомых) – тоже. Он любил говорить, часто выступал на семинарах. Кажется, имел он и другую пламенную страсть – руководить. Из таких людей обычно получаются хорошие работники профсоюзов. Не знаю, где и что он сегодня. Думаю, в первых рядах.
Читать дальше