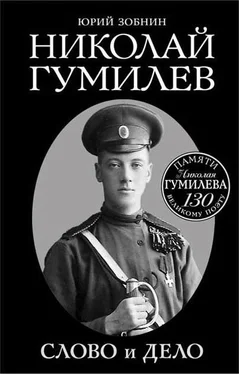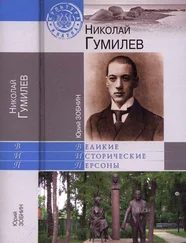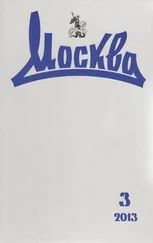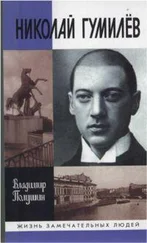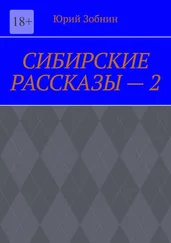История вышла очень громкой. По завершении пасхальных каникул педагогический совет решал судьбу преступников: неудовлетворительная отметка за поведение и последующее исключение из гимназии. Участники собрания были настроены решительно, однако председатель Иннокентий Анненский, сокрушенно качавший головой в знак согласия с каждым обвинением против хулигана и второгодника Гумилева, взяв в конце слово, веско заметил:
– Все это правда, господа, но ведь он же пишет стихи!
И принял злостного нарушителя дисциплины на поруки, разрешив ему, по сдаче экзаменов, переход в следующий, выпускной класс. Директору никто возразить не посмел. Гумилев же тогда был равнодушен к своей судьбе, принимая все с полной бесчувственностью [57]. А через несколько дней все вокруг забыли думать о несостоявшейся царскосельской дуэли. Пришли первые известия, что японский адмирал Хэйрахито Того пустил на дно весь идущий на Дальний Восток русский флот, встретив корабли Рожественского в Цусимском проливе.
Мало кто верил, но и корреспонденты нейтральных европейских держав всюду подтверждали – весь ! Хуже того: сам Рожественский, оказавшийся подонком, не застрелился и не погиб в бою, а позорно попал в плен. Жалкие остатки разгромленной эскадры, не видя возможности сопротивления, сдались на милость победителя, трусливо спустив Андреевские флаги. За всю историю России это было самое чудовищное национальное поражение. Военная победа Империи Восходящего Солнца под Цусимой оказалась настолько эффектной, что парализовала волю государственных мужей, понимающих, что Япония, со всеми ее триумфами, весной 1905 года была уже не в состоянии воевать, что все резервы, заготовленные ею за сорок предшествующих лет, уже начисто истрачены под Ляоданом, Порт-Артуром и Мукденом [58]. Генерал Куропаткин заклинал императора Николая не спешить с переговорами о мире, призывая (здраво) вспомнить хотя бы о печальной судьбе армии победоносного Наполеона Бонапарта зимой 1812 года. Но Цусима внушила фатальную мрачную уверенность: это конец, война окончательно проиграна . Помимо того действовал и «революционный проект» хитроумного полковника японской разведки Мотодзиро Акаси: на русских, польских и финских «борцов за свободу» пролился золотой дождь, были проведены съезды подпольных партий и закуплено оружие для мятежа. В мае забастовал Иваново-Вознесенск, текстильная столица страны, в июне баррикадами покрылась польская Лодзь, и пошли кровавые беспорядки в Финляндии. На Черноморском флоте летом вспыхнул бунт, флагманский броненосец «Князь Потемкин-Таврический» поднял красный флаг социальной революции и бомбардировал Одессу. 23 августа (3 сентября) в американском Портсмуте премьер-министр Витте подписал мирный договор, уступающий Японии Приморье. «Не Россию разбили японцы, – подытожил Витте, – не русскую армию, а наши порядки или, правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы».
Осенью, с началом учебных занятий, Гумилев наконец пробудился к жизни. Все Горенко к этому времени исчезли из Царского Села, как будто и не жили тут вовсе. Злосчастную Анну поспешили отправить к старшей сестре в Крым еще в мае. А позже статский советник Горенко во время опальных мер, принятых против морской администрации после цусимского апокалипсиса, со скандалом был изгнан в отставку, дотла разорился, позорным образом порвал с женой и затаился где-то в Петербурге. Брошенная на произвол судьбы «Несуразмовна» с остальными детьми уехала к дочерям в Евпаторию – там все они и осели из-за полного отсутствия средств для устройства жизни где-нибудь, кроме глухой южной провинции. От своего бывшего секунданта Андрея Горенко Гумилев получил из Крыма несколько печальных писем. Потом тот замолчал.
В первые же дни нового учебного года директор Николаевской гимназии, верный обязательству перед родительским комитетом, решительно взял Гумилева под строгий патронаж:
Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.
Влияние Иннокентия Анненского на девятнадцатилетнего Гумилева оказалось огромным и во всех отношениях благотворным. Впервые в жизни хронический лентяй и второгодник принялся за учение всерьез, уверенно продвигаясь к итоговым экзаменам. Но дело было не только в учебе. Директор и гимназист имели общие профессиональные интересы в художественной словесности. Анненский не терпел интеллектуальный провинциализм отечественных литераторов. От своей сестры, вышедшей замуж за главного хранителя Muséum national d'histoire naturelle [59]в Париже, он получал новейшие французские журналы и книги, собрав в Царском Селе уникальную иностранную библиотеку. Анненский склонялся в своих творческих пристрастиях к поэзии французских «парнасцев» [60], совершенно неведомых в России. Гумилеву пришлось налечь на французский, но результат оправдал все потраченные усилия. С этого времени французская поэзия XIX века стала его вторым «литературным отечеством». А под воздействием l’art robuste , «мощного искусства» Теофиля Готье и Леконта де Лиля поменялся гумилевский поэтический язык: подобно им, он начинает сознательно стремиться к изобразительной точности и «вводить реалистические описания в самые фантастические сюжеты»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу