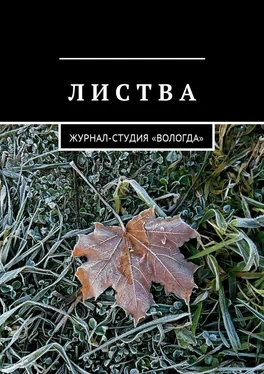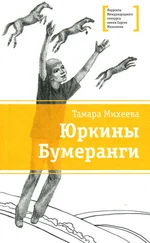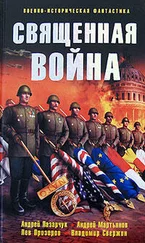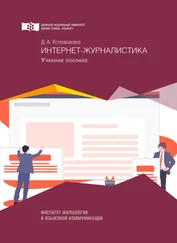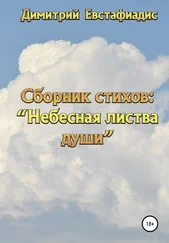Все это нарушало настрой, с которым Борис Егорыч подходил к храму, готовился войти в обитель Бога и попросить прощения за свои грехи, сомнения и поступки, казавшиеся неправильными. Вскоре все местные церкви лишились своего прихожанина.
Борис Егорыч, как ему казалось, честно искал духовное пристанище и долгое время не находил. Внезапно таким храмом для него стала телепередача, в которой пастырь произносил удивительно точное и верное слово. «Я верую», – хотелось сказать после каждой программы, и Борис Егорыч так говорил.
***
Борис Егорыч работал смотрителем в местном музее, расположенном в бывшем соборе. Здание поражало своим внешним видом: оно было построено в восемнадцатом веке в стиле барокко, украшено полуколоннами и лепниной. Внутреннее помещение отличалось прекрасной акустикой, здесь, в окружении экспонатов, часто проходили концерты.
Экспонатами были иконы, хорошо сочетавшиеся с духовной и другой классической музыкой. Среди всех образов, рожденных в разные века, Бориса Егорыча привлекал один, рядом с которым он старался проводить как можно больше времени. Это была самая старая икона из собрания музея, датируемая четырнадцатым веком, – «Богоматерь Умиление». Сохранился только красочный слой на центральной доске – лики Марии с Младенцем и частично их руки и одежда. Огромные глаза Богоматери, зеленоватый колорит иконы производили на смотрителя глубокое впечатление. «Каждый раз – как первый», – любил повторять Борис Егорыч, когда утром заходил в алтарное пространство, где выставлялась икона, включал свет и вглядывался в образ. Как ему казалось, «Богоматерь» и место вокруг нее – апсида, конха – источали истинную благодать, какую он не встречал нигде прежде. Разве только при встрече с пастырем во время воскресной телепередачи.
Как известно, среди музейных смотрителей не бывает мужчин. Не нужно доказывать, что Борис Егорыч был исключением. До пенсии он работал реставратором в мастерской при музее, но был скорее исполнителем, чем руководителем или исследователем. Он больше помогал, выполнял черновую работу, самостоятельно восстанавливал произведения искусства, которые считались не столь ценными. Поэтому приработков у него было немного: частные заказы получали другие реставраторы, более авторитетные и активные.
В училище на эту специальность его когда-то определил отец, потомственный реставратор. Борис Егорыч, любивший с детства рисовать, выжигать, мастерить деревянные модели, воспринял этот поворот судьбы с благодарностью, но знал, что никогда не достигнет высот родителя (Егор Васильевич когда-то участвовал в восстановлении фресок самого Рублева). Он был более замкнут, как говорится, себе на уме. Поэтому и окончил училище в середнячках, устроился на работу в провинциальный город за пределами Золотого кольца и предпочитал в музейной мастерской тихую, размеренную работу на вторых ролях.
Но за внешним спокойствием Бориса Егорыча скрывалась настойчивая и беспокойная внутренняя жизнь. В советское время он удивлял своих коллег интересом к богословской стороне иконописания, вчитывался в атеистические истории церкви в поисках цитат из Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и других святых – и вписывал их в контекст личного отношения с образом и Богом.
Этот интерес не остался незамеченным со стороны его соседки по мастерской – Нины. Она была тоже одинока, погружена в исследование изображений Прокопия Устюжского и однажды получила обстоятельный ответ от Бориса Егорыча на вопрос о богословском обосновании иконного образа. Они стали поглядывать друг на друга, сходили вместе на несколько концертов в здании бывшего собора и внезапно нашли рядом человека, который умеет молчать и слушать.
Когда началась перестройка и в открытую заработали церкви, Борис Егорыч начал свои «поиски храма». В один из них он пригласил и Нину: «посмотреть» на службу, «встретиться с верой» за пределами мастерской и научных исследований. Но на молодую женщину эта «экскурсия» не произвела впечатления: она осталась, как и была, убежденной атеисткой, не признававшей мистических откровений и поисков.
Однако разногласия относительно церкви не помешали их общению. Они умели не заходить на территорию близкого человека, уважая его мнение и увлечения. В этой ситуации им не оставалось ничего более, как пожениться и жить долго и счастливо.
Так и случилось, но далее их жизнь развивалась с поразительной быстротой, совершая невероятные повороты. Лет пять пронеслись, как кинопленка: начало девяностых, нищета и тоска освободившихся людей, верность профессии и борьба с бытовыми трудностями. Нина никак не могла забеременеть, возраст у нее уже был для рождения ребенка критический, а Борис Егорыч, как мог, утешал ее и себя. У него же не было желания иметь детей: его занимали другие поиски – материальные и духовные. Эта проблема стала постепенно подтачивать их отношения, и в конце концов между ними образовалась трещина, которую оба не смогли ничем заполнить.
Читать дальше