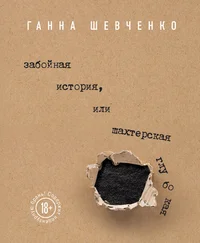Может быть, в магазине,
где он приобретён,
пластик или резина
были со всех сторон.
Да и сейчас не лучше –
вспорот живот тунца,
в камере сбились в кучу
бройлерные сердца.
Дима, держись, я тоже
маюсь своей зимой,
как мы с тобой похожи,
господи боже мой.
Когда зажигаешь на кухне свет, становится ясно,
где лежат салфетки, где брошено полотенце.
Можно запрыгать от радости, можно запеть чуть слышно
домохозяйкин блюз под шумок кастрюльный.
сколько воды из крана течёт под камень
сколько воздушных масс над плитой клубится
сколько огня под старой сковородою
сколько земли в цветочных горшках твердеет
Не боишься уже, что кто-то крадётся сзади,
и совсем не пугает тот, кто в углу за дверью.
Потому что темнота – это теперь не страшно,
потому что тьма – это когда лампочка перегорела.
«Просыпаемся рано, детей одеваем…»
Просыпаемся рано, детей одеваем,
на бегу выпиваем свой утренний чай,
из подъезда выходим, в перчатку зевая,
мой хороший ребёнок, не озорничай.
Вот Серёжина мама, вот Катина мама,
вот Макар завершает детей череду,
показалась Кариночка между домами,
не реви, я сегодня пораньше приду.
В полвосьмого темно. Освещают дорогу
фонари: им привычен наш утренний бег,
и ложатся, помалу рождая тревогу,
скоротечные тени на выпавший снег.
Мы идём под прицелом бесшумной винтовки,
нас ведёт через темень небесный спецназ,
и становится страшно, досадно, неловко,
почему-то становится жалко всех нас.
Не придёт она к обеду,
у неё смертельный вид.
По закону Архимеда
тело в жидкости лежит.
Выцветает обстановка,
постепенно гаснет свет.
Нервы. Сердце. Остановка.
Всё. Приехали. Привет.
Погружается, раздета,
обронивши тела клеть, –
по закону Архимеда
кто-то должен умереть.
Но душа её неслышно,
уподобясь журавлю,
поднимается над крышей,
чертит в воздухе петлю.
«Сидел на камне человек, я помню, он сказал…»
Сидел на камне человек, я помню, он сказал,
что этот город, этот дом, гостиница, вокзал,
химчистка, школа, магазин, деревья, детский сад,
дорога с вилками столбов и мэрии фасад,
плотина, небо над землей и даже облака –
всё это, в общем-то, ещё не создано пока,
а только кажется тому, кто вышел на балкон,
от ветра сжался, запахнул истёртый балахон,
тому, кто думает, что бог – огонь или рыбак,
тому, кто смотрит на пустырь, не замечая, как
сидит на камне человек, тот самый, что сказал:
всё это – фенечка, пустяк, не верь своим глазам,
другой, хороший бог, в другом, нешуточном раю
тебе подарит всю любовь, всю ненависть свою.
Рыба лежит,
дребезжит хвостом,
ёрзает животом.
– Ты, – говорит, – не жалей о том,
что я попала в твой дом,
что руки твои в моей чешуе
и запах стоит кругом.
Я полежу на твоём столе
рядом с твоим ножом
и расскажу о воде, земле
или ещё о чём.
На блюде – отрезанная голова,
стеклянными стали глаза,
но я ведь жива,
всё равно жива,
и хочется рассказать
о тихой, медленной
смерти моей,
о дробном дрожании скул,
о том, как старик ходил по песку,
словно по волоску,
щурился,
в море забрасывал сеть
и долго-долго тянул…
Тебе остаётся всего лишь съесть,
косточки перечесть…
«Она появилась из точки…»
Она появилась из точки,
из пыли небесных саванн,
плывя в акушерском лоточке
за околоплодный туман.
Сжималась, горела, крепчала,
тряслась, обрастала корой,
её мировое начало
пугало соседей порой.
Вдыхала тяжёлые газы,
утюжила внутренний слой,
и звёзды, как модные стразы,
росли над её головой.
Природой её молодою
однажды увлёкся Творец,
покрыл белоснежной водою
и силой повёл под венец.
Его не слабеет опека,
её тяжелеет живот –
сейчас они ждут человека,
который родится вот-вот.
Отражаясь в залётном чиже,
появилась весна в макинтоше,
я таких повидала уже
три десятка, а может, и больше.
Эта молния на рукаве,
эти грозди сирени парчовой,
этот дождь, этот лаковый свет
приукрасят любой подмалёвок.
Раздевайся скорее, весна,
брось резиновый плащ на отшибе;
в небе вертится солнце-блесна,
облака его ловят, как рыбы.
Белогривой водой изойдя,
бьют копытом порожние своды,
на приталенном платье дождя –
этикетка хорошей погоды.
Читать дальше

![Ганна Шевченко - Забойная история, или Шахтерская Глубокая [сборник]](/books/25451/ganna-shevchenko-zabojnaya-istoriya-ili-shahterskaya-gl-thumb.webp)