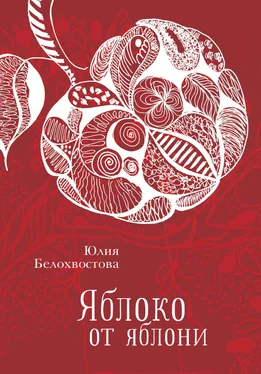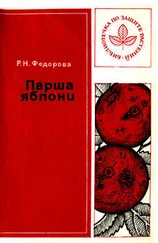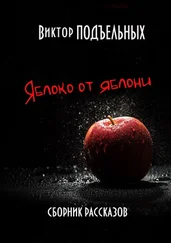Мне кажется, она теряет смысл,
по горло зарастая камышами,
и рыбы забывают, чем дышали,
и пьют туман рассветный, как кумыс.
А ты дыши, дыши, и мне пиши,
я буду пить слова твои густые,
пока они в разлуке не остыли,
не остудили утренней души.
Я напишу, а ты меня читай,
води губами, пальцами по коже,
и то, что ты во мне понять не сможешь,
из этих слов и строчек вычитай.
Вот облака, разглаженные ветром
от голубой беседки до сосны,
полнеба закрывают, и при этом
намерения неба не ясны.
Не слышно, чтобы гром настроил трубы,
с соседской дачи ветер носит лай
собаки, не похожей на Гекубу,
и греется на солнце Менелай.
Все тишь да гладь. В листве темнеют вишни
внимательные карие глаза.
Предугадать, чем кончится затишье
по-прежнему заранее нельзя.
Что толку Трое в стенах укрепленных,
в законах, запрещающих вражду,
когда на ветке зреет неуклонно
единственное яблоко в саду.
Прошли навстречу двое под дождем
без зонтиков, и встали у калитки,
пропитанные синевой до нитки,
"Что, нет его пока что? Подождем…"
А тот другой, кого "пока что нет",
случайно перепутав переулки,
растягивает время до разлуки,
не изменяя в сущности сюжет.
Сбежала, словно вымокнуть боюсь,
не дождалась, чем кончатся объятья,
и море вновь отхлынуло от платья,
оставив на губах соленый вкус.
Такое хорошее долгое лето,
стихами согрето, скрипит половицей,
с июня до августа длится и длится,
и ходит по дому, и ходит по свету.
Пристроимся следом – оставим постели,
насиженные табуретки на кухне,
уедем туда, где луна не потухнет
к полудню, где мы будем жить, как хотели:
на волнах качаться, как чайки, как чайки
друзей окликать, проплывающих мимо,
и пить с ними вина любимого Крыма,
а после об этом рассказывать байки.
Не кончится лето ни завтра, ни после,
и осень на море пловцов не догонит,
прикормленных птиц не прогонит с ладони,
а в горы поднимется солнечный ослик.
Пристроимся следом, без всякой поклажи,
упрямо преследуя долгое лето,
не то, чтобы ослики, просто поэты —
прекрасны, беспечны и счастливы даже.
Первые желтые листья не в счёт,
солнце печёт сквозь несобранность ивы,
спелые яблоки, синие сливы,
ветреной ряби в воде переливы,
лодочки листьев – не осень ещё.
Каждое слово – надкушенный плод,
вызрело или же сорвано рано,
смыслом ли, соком наполнено пьяным,
на языке у поэта, гурмана
выбора или забвения ждёт.
Каждая память – расшатанный мост,
нам ли забывчивым быть не по летам.
День через вечер прошел незаметным,
и, наполняя бессонницу светом,
лунное яблоко двинулось в рост.
Всё ещё месяц рассыпанных звёзд,
ливней, и молний, и мокрого сада,
ржавчиной тронутого винограда,
позднего чувства и долгого взгляда,
всё ещё лето, и это всерьёз.
Первые желтые листья – не в счёт,
каждое слово – надкушенный плод,
каждая память – расшатанный мост,
всё ещё месяц рассыпанных звёзд,
всё ещё лето, лишь это всерьёз.
Жизнь дачная, неторопливая,
с претензией на благодать,
где между яблоней и сливою
одна морока выбирать.
Где бабки застилают ящики
известиями дней былых,
и огурцами настоящими
хрустящими торгуют с них.
Где утро терпит опоздание
и входит в дом со всех сторон,
и день проходит под жужжание
соседей, бреющих газон.
Где речка к ночи прогревается
до грипповых температур,
и обнаженными купаются
владельцы типовых фигур.
Подержишь беленькую в холоде,
достанешь рюмки для гостей,
подумаешь: чего же в городе
нам не живется без затей?
Нестройность птичьего сопрано, воскресный благовест вдали, под сладкой тяжестью шафрана согнулись ветки до земли, в коклюшках веток – паутина, и день плетется кое-как, стоит плетеная корзина, наполовину в яблоках… В траве, в садовой бочке, всюду избыток райский, собирай и веруй в яблочное чудо, в необычайный урожай.
Вот эту яблоню за домом я помню дольше, чем себя. Отец рассказывал знакомым, что к середине сентября (не этого, но через годик уж точно) будет нам пирог, все дело в правильном уходе. И он ухаживал, как мог: поил, кормил, зимой холодной ствол мешковиной пеленал… Увы, она была бесплодной, как Авраамова жена.
Сад пережил пожар, щитовок, набеги выросших детей и переделку в духе новых ландшафтно-парковых идей. Творцы в порыве вдохновенья хотели яблоню срубить, но для густой прохладной тени оставили. И птицы вить в ее ветвях привыкли гнезда, а папа в солнечные дни любил сидеть в шезлонге пестром в ее спасительной тени.
Тот год, когда мы проводили отца, был яблочно богат. Под слоем золотистой пыли тонул в осеннем солнце сад, со стороны усадьбы старой трезвонили колокола, и яблоня библейской Саррой воспрянула и понесла – согнулись ветки под плодами, не в силах с ношей совладать, а в доме пахло пирогами, а в сердце стала благодать.
Читать дальше