у этой Лолиты
колени-бритвы,
губы в яркой помаде,
рыжие пряди,
спадающие на спину.
я её кину. однажды кину.
она привлекает как тень эбена
в дыму африканского пекла
она шикарна и обалденна, —
я сделаю с неё слепок
такой же бледный и воспалённый,
веснушчатый и оплошный, —
и этим гением озарённый
я её к чёрту брошу.
она спускает меня на дно,
ночами на части рубит,
но я влюблён в неё, – мне в вино
глядит обречённый Гумберт.
ты всю ночь прождала. не сомкнула глаз.
вот и я. выхожу из такси. светает.
ты сбегаешь по лестнице, сонная. здрас —
твуй – в объятии резком тает.
я прощаю обиды. что их таить?
возвратилась к тебе, но совсем другая.
что по лестнице белым ногам сходить,
безучастно курить и грустить, пока я
подчиняю полотна с морской волной,
и грассирую где-то над Тихим в дали,
становлюсь гармонично самой собой —
миксом трепета, сна и стали.
наш роман был недолог и слишком резв,
о любви здесь и речи не шло – едва.
но, не веря слезам, ты сейчас и здесь
разрыдалась в объятьях моих, Москва.
Je repars à zero
Edit Piaf*
пережидая на Арбате морось,
я от обид как кошка лапой моюсь,
мурлычу и смотрю, нахмурив брови,
как крапают в вино остатки боли.
пережидая на Арбате дождь
я выпускаю горечь из ладош
измученным надеждой голубком, —
и не жалею больше ни о ком.
и прошлое с закрытости террас
с меня не сводит полоумных глаз. —
как я, в его несовершенстве линий,
ступаю на Арбат. под ливень.
* (фр.) Я начинаю с нуля. Эдит Пиаф
даже красивые кожаные перчатки не согревают пальцев
даже красивые кожаные перчатки не согревают пальцев.
в холодном маршрутном такси нет возможности потеплеть.
мутных глаз сидящих напротив людей естественно испугаться,
и, отвернувшись, на снег в узорном стекле смотреть.
и вдруг отчетливо видеть здания. откуда они здесь выросли?
чьи-то дома, – в празднично приглушенный предновогодний свет
плывут горстями к гостям в гостиные тени людей, нанизанных
на стержень быта, забот, игрушек; диванно простых бесед.
девица, воюя с микроволновкой, готовит, должно быть, рыбу,
мужчина с Ахматовским профилем пьет холостой коньяк,
мне жизнь захотелось прожить вдруг рядом с каждым из них.
губительно любопытство, – но все же, какой бы была я?
любила бы Бродского? Каннингема? Оскара Уайлда, Булгакова?
страдала б артритом? пьесы, картины писала так же?
жутко бывает в маршрутках, когда подсознание играет фактами
любой из прожитых жизней – что много теплее вашей.
в серебряных лучах крошился талый снег,
и ангельская музыка свисала
над влажностью полуприкрытых век
среди Дворцовой камерного зала.
прожекторы искали выход ввысь
на плотном сером небе Петербурга,
и я подумала, что все мы родились
от взмаха кисти злого драматурга.
что наша жизнь – аквариум с водой,
мы – рыбы, не бывавшие на суше,
а там вверху, над самой головой,
хмельной писатель правит наши души.
он нам сулил незаурядный рок, —
поэзия как ВВС – на фоне прозы*.
твоей рукой писал, конечно, Бог,
и по любимому лицу катились слезы.
*Разница между прозой и поэзией примерно такая же как между пехотой и военно-воздушными силами.
Иосиф Бродский
небо, в цвет водосточной трубы,
обнимает меня долгожданно,
над моей головою – гербы,
на руке – едкий след чемодана.
я иду по рябинам в снегу
без колец, макияжа, эмоций, —
Петербург в уходящем году
братски выдержанно не бросок.
что мне это дворянство в крови
да промозглые чаяния ветров, —
между мной и тобою любви
уже тысячи три километров.
отчего ты всегда так грустишь?
будто некогда дерзкая цаца
променяла тебя на Париж,
не умея ни с кем оставаться.
Здравствуй, Крис, это я, твоя отравившаяся жена
можно прилягу здесь послушать шум океана?
Здравствуй, Крис, это я, твоя молодая мать
Чем ты изгваздал руки? позволь мне вымыть.
Крис, это я, твой отец, в доме сейчас льет дождь,
вроде бы все как прежде, только исчезла лошадь.
Читать дальше
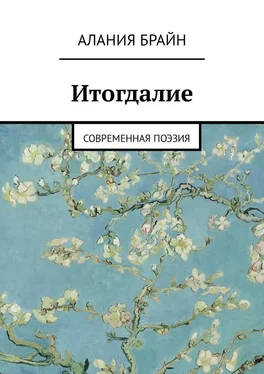


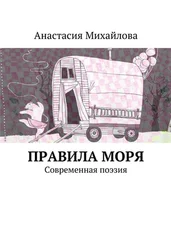
![Дун Си - Слова, упавшие в воду. Современная поэзия Гуанси [антология]](/books/423808/dun-si-slova-upavshie-v-vodu-sovremennaya-poeziya-g-thumb.webp)







