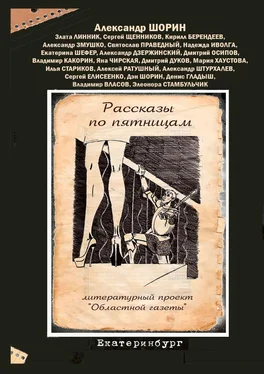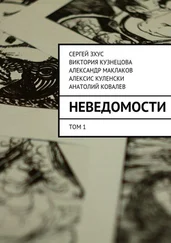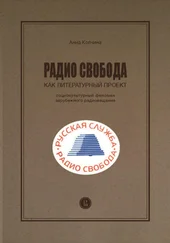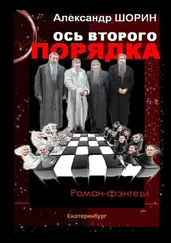Вот только этот проклятый договор!
…Если идти до дома пешком через весь наш огромный мегаполис – это часа два, не меньше. Пройдя километров пять, я устал, продрог, но так и не успокоился. Зашел в первое попавшееся кафе. Заказал чашку кофе, какие-то бутерброды, закурил.
Совсем незнакомое было кафе. Незнакомое и очень странное. Будто в другое измерение попал: официанты – во фраках, а официантки – в передниках прямо на голое тело и все – как подбор – стройные красавицы. Как будто частный клуб или элитный ресторан для избранной публики. Музыка – тихим фоном, на танцполе – смуглые девушки змеями извиваются. И как меня пустили сюда: в грязных ботинках, в джинсах, в свитере моем потертом? Я был так поражен, словно зайдя в деревенский сортир, оказался вдруг в ватер-клозете гостиницы «Хайят»… Разволновался, засмотрелся… Но успокоился понемногу: тоже я не лыком шит, много где бывал, просто вот так неожиданно…
И… Расслабился. Где наша не пропадала? Заказал еще кофе, коньяк, да и стал смотреть с удовольствием на танцпол. А там змей уже сменили негритянки, охотно демонстрировавшие свои большие черные груди.
А потом… Потом на сцену вышла Она. Вся в белом и прозрачном, вот только волосы почему-то синие. Вышла, и сразу ясно стало: и змеи эти, и прочие негритянки ей и близко в подметки не годятся – прима.
Смотрю на нее во все глаза, а кто-то во фраке шепчет в ухо: «Эта девушка желает с вами приват, пройдемте вон туда, за ширмочку». Берет меня под локоть аккуратно и ведет… Показывает неприметную дверцу…
И… снова я в каше снежной пополам с грязью, только вот метель началась и – город почему-то незнакомый. А еще: щека горит – то ли от поцелуя, то ли от удара. Не помню.
И имя свое не помню. И знакомых у меня больше нет. И истории моей личной тоже… Все, что помню: Теофраст, «Характеры».
Почему-то такая цитата: «А трус вот какой человек…»…
Про голову вампира, фаршированную чесноком
Первый раз Зоя получила по зубам от своего мужа Николая на следующий день после того, как они сошлись. Буднично это было: вечером, садясь есть борщ, он поморщился и ударил ее по губе, которая мгновенно распухла. В этом его действии не было злобы: примерно так же походя он хлопнул бы комара на шее. Борщ не был даже пересолен – просто он показал ей, кто в доме хозяин.

Она поняла это. И не обиделась. Но есть рядом не стала, хотя поставила тарелку и себе тоже. Осталась прислуживать. И больше никогда не ставила себе тарелку.
Она вообще всё поняла. Почему свадьбы у них не было, даже комсомольской. Почему он, такой красивый – усатый и с шашкой – выбрал именно её, сироту из убогой деревни, бросив брату (главному в семье) в качестве калыма мешок картошки.
Чего тут не понять? Он просто ее купил, как покупали когда-то крестьян – чтоб вела хозяйство в доме. Красный командир решил осесть и остепениться. Её, собственно, даже никто и не спрашивал. Даже брат…
Зоя была наполовину еврейкой, а значит виноватой. В чем виноватой, вряд ли она смогла бы ответить. Впрочем, над таким вопросом и не задумывалась никогда, но знала: если что, будут бить. Когда умерли папа с мамой, брат ушел на войну, она стала прислуживать в доме тётки. Били – потому что еврейка; потому что голодно; потому что умная; потому что в школу хочет; потому что нужно обязательно кого-то бить.
Брат потом вернулся и забрал ее к себе. Не бил. Научил читать. Продал за мешок картошки.
Его она тоже поняла: семеро по лавкам, лишний рот. А картошка – это жизнь…
Она умела приспосабливаться. Быстро привыкла к новому дому. На работу Николай ее не пускал, хотел чтоб за хозяйством следила: корова, поросёнок, десяток кур.
Вставала она с рассветом и, отправив корову на выгон, возвращалась делать мужу завтрак: яйца, хлеб, молоко. Потом за ним приезжал автомобиль, и он, скрипя портупеей, уезжал на работу.
Обедал муж на службе, а ужинал всегда дома, и ужин любил богатый: борщ, мясо с картошкой, яичницу со шкварками…
Бил редко, говорил с ней – ещё реже. Она даже не знала, где он служит. Знала только, что он – большой начальник: водитель у него с машиной и маузер на боку.
Радовалась, что сытно. Тайком брату в деревню переправляла картошку. Каждый месяц – мешок…
Дома всё было – как муж скажет. По выходным он любил сам поковыряться в огороде, с наслаждением колол дрова. А под вечер любил есть особое блюдо, которое готовил сам: тюрю из хлеба, размоченного водкой. После чего кряхтел, пел: «Эх, Маруся, нам ли жить в печали?» и тащил её в кровать. Потом она аккуратно выползала из-под него, спящего, и тихонько шла спать на своё обычное место – тюфячок у печки.
Читать дальше