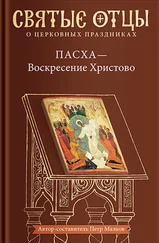Саша свернул, прошел мимо старой заросшей голубятни, мимо детской площадки, заливающейся смехом и повизгивающей, мимо шелестящих яблонь. Ветер закончил разминку и задул изо всех сил.
Загудело, зашумело, загрохотало. Гром оглушил всех, кто не успел убежать, и небосвод покрылся сотней трещин. Голубая глазурь стала отваливаться, открывая грифельную наготу неба. Куски глазури таяли и впечатывались в землю крупными каплями. Покрываясь бусинами дождя, Саша подходил к дому.
Возле подъезда рабочие бросили гору горячего асфальта. Пар от него поднимался, чтобы раствориться в водной стене. Пахло прохладой и мокрой пылью. Саша делал вдох за вдохом и никак не мог надышаться. В груди ныла пустота, сердце сдавливала тоска о том, чего никогда не было и быть не могло.
Он чувствовал себя больным, хотя не был болен. Вероятно, об этом и предупреждали медсестра и Костик. Вероятно, это – творческое истощение, невозможность написать ничего, кроме объяснительных и заявлений. Вероятно, именно этого стоят пять неновых купюр, которые лежат в заднем кармане колючих брюк.
Размышляя об этом, Саша поднимался в квартиру, прокручивая в пальцах кольцо, неизвестно от чего удерживающее ключ. Саша разулся, прислушался к тишине родного дома – к той особой тишине, которая позволяет не замечать соседских ссор, работающего через стенку телевизора и тарахтения поливальной машины по утрам. Квартира была спасением от суеты, пещерой, которая хранила вещи, а не тени.
На кухне жужжала заблудшая муха, то и дело врезающаяся в заклеенное темной пленкой окно и совершенно игнорирующая распахнутую настежь форточку. На столе лежал пакет от сладких сухарей, которые оставили после себя след из хрустящих коричневых крошек. В темной ванной Саша долго мыл руки, наблюдая, как уходит вода, и желая, чтобы вода смыла еще и усталость. Свет включать не хотелось, он был бы неуместен. На зеркале виднелись следы от высохших капель. Саша долго смотрел на свое отражение, не узнавая не то его, не то себя.
Он прошел в комнату и, не раздеваясь, упал на кровать, лицом уткнувшись в подушку. Пустота давила снизу, усталость наваливалась на спину, тоска заливалась в уши. Как мантру, Саша шептал: «Это пройдет, это скоро пройдет, очень скоро пройдет». Это уже проходило.
Возможно, дело было в мягкой подушке, возможно, мантра работала, но скоро Саша заснул спокойным сном – без мечтаний, без надежд, без впечатлений, без девушки в летящем оранжевом платье.
Впрочем, о девушке он вспомнил уже утром.

Гы говоришь со мной на странном языке. Языке полутонов, полунамеков, полуосознанных междометий, милых полуулыбок и доверчиво тянущихся ко мне рук. Сейчас твоя речь – всего лишь небольшая палитра звуков, и, выбирая один из них, ты пытаешься донести что-то новое этому миру, передать свое восприятие, ощущение, отношение к чему-то, мне уже не заметному. Ты не делишь дни на часы, год – на недели и месяцы. Понятия времени еще не существует для тебя, как не существует и конца-начала. Наверное, поэтому ты будешь убежден в своем бессмертии. Но подрастешь еще – и уже беспрепятственно сможешь осыпать взрослых ярким конфетти из вопросов, многие из которых останутся без ответа.
Маленький актер, ты хохочешь и плачешь, корчишь гримасы и хитро, совсем по-взрослому, прищуриваешься – все это для того, чтобы получить желаемое: оказаться на руках и потрогать колокольчики. Найти их можно везде – в коридоре (блестящие красные трубочки), на кухне (металлический «ветер»), в ванной (серебристые пластинки, за них ты хватаешься после купания), большие золотистые колокола под советской люстрой, оставшиеся после какого-то Нового года, между которыми спрятался маленький бубенчик, – твои любимые. Их звучание приводит тебя в такой же восторг, что и встреча с кошкой – желанным собеседником, который упорно не обращает на тебя внимания.
Точно турист, не знающий местного наречия, ты общаешься, пользуясь языком жестов. Когда радуешься, машешь рукой; сжимаешь и разжимаешь пальцы, желая схватить что-то, а увидев что-то новое, интересное, вытягиваешь личико и открываешь рот так, что он становится похож на маленькую луну, а глаза – на лучащиеся капли осеннего неба.
Довольный собой, ты произносишь: «Буу!», «Ааоуиии», – отвечаешь на вопросы деда. Солнечный смех звучит, когда ты видишь маму, и, используя все, что только умеешь воспроизводить, ты рассказываешь мне о том, что тебя беспокоит. Ты говоришь на странном языке, которому скоро будет год, но я тебя понимаю.
Читать дальше