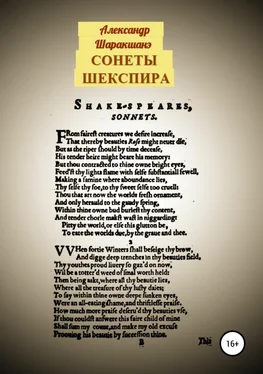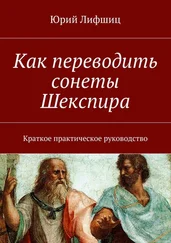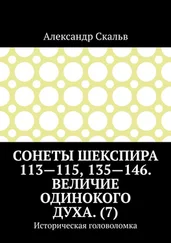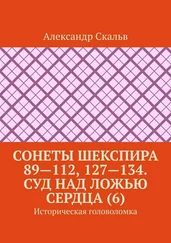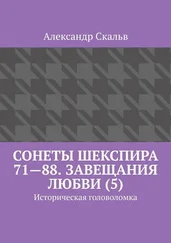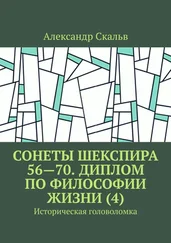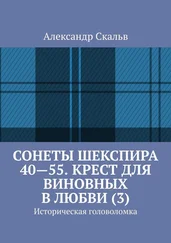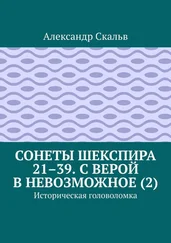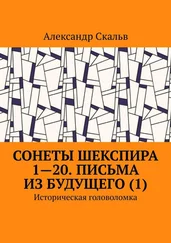После сонета 86 прямое противостояние с соперником уходит со страниц «Сонетов», но прежние близкие отношения поэта с Другом уже не восстанавливаются. В стихах поэт театрально, с горькой иронией прощается с ним (сонет 87) и, давая волю разочарованию, резко отчитывает юношу – вплоть до того, что сравнивает его с «гниющей лилией» (сонет 94).
Сонеты 97–98, по-видимому, появились после длительной размолвки; они знаменуют примирение и начало еще одного – последнего – этапа отношений поэта с Другом. Сами эти два сонета очень теплы и лиричны, наполнены радостью возродившегося чувства. Однако возврат к прежнему оказался невозможен. Последующие сонеты, несмотря на отдельные декларации любви, свидетельствуют о нарастающем отчуждении и эпизодичности общения с белокурым красавцем.
Сонеты 109–121 в целом сумрачны по тону; сквозной темой в них является греховность: поэт откровенно, даже вызывающе признается в своих грехах, заблуждениях и изменах, от раскаянья быстро переходит к встречным обвинениям, клеймит за грехи всех окружающих и самого Друга.
… станут клясться в зле кромешном,
Что, дескать, все грешны в сем мире грешном, —
пишет он в сонете 121 о своих воображаемых судьях, но, похоже, подобное настроение было не чуждо ему самому.
Цикл сонетов «к Другу» завершается без каких-либо громких слов: в сонете 126 (написанном с нарушением сонетной формы) автор отстраненно напоминает юноше, что его красота не вечна. Эта отстраненность лучше любых проклятий показывает, что бог красоты, которому служил поэт, для него умер.
Такова представленная в «Сонетах» история отношений поэта и его Друга. В ней много того, чем обычно была полна любовная, в особенности, сонетная поэзия того времени: преувеличенное увлечение предметом, восхищение идеальной красотой, любовное наваждение, не дающей влюбленному покоя ни днем, ни ночью, редкие свидания и длительные тягостные разлуки, мольбы и упреки, обиды и всепрощение. Вот только предметом является не женщина, а молодой человек. Это необычное обстоятельство наверняка ставило в тупик многих современных читателей «Сонетов»; вызывает оно разнотолки и в наше время. Выскажем предположение, что сонеты к Другу, возможно, начинались как литературный эксперимент, предназначенный для узкого круга посвященных читателей: поэт намеренно воспользовался арсеналом сонетной лирики, чтобы воспеть своего молодого знатного покровителя. Если это верно, то в такой «транспозиции» могли присутствовать и шутка, и тонкая лесть.
Однако, как говорится, «поэта далеко заводит речь». То, что начиналось как игра, постепенно приобрело черты настоящей драмы. Особенно убедительно в этом смысле звучат сонеты, вызванные к жизни соперничеством с другим поэтом. Растерянность, унижение, злая ирония и отчаянные попытки вернуть себе исключительное положение наперсника знатного юноши – все это явно реально, а не вымышлено.
Однако ни литературная игра, ни выражение в стихах истинного обожания и истинной ревности сами по себе не сделали бы «Сонеты» великим произведением. Возможно, более важным является другое содержание – то, которое обнаруживается, если за событийной канвой и игрой метафор разглядеть человека, понять, что его на самом деле волнует.
Поэт этого и не скрывает: уже в первой, «матримониальной» части громко звучат темы, которые в дальнейшем станут сквозными: неумолимость Времени, приносящего старость и смерть; бренность всего сущего, включая лучшие творения Природы; особая ценность Красоты, без которой мир ничтожен и бессмыслен; могущество поэзии, способной запечатлеть Красоту и тем спасти ее от гибели.
Автор «Сонетов» предстает глубоким пессимистом: в природе он не находит ничего нового – одни повторения уже бывшего (сонеты 59, 60, 123); в людях с отвращением наблюдает физическое и нравственное уродство, прикрытое париками и румянами с одной стороны, лицемерием и ложью – с другой (сонеты 67–68); в обществе находит галерею пороков и зла, от которых ему хочется бежать в мир иной (сонет 66); прожитая жизнь, выпавшая ему участь, собственный физический и нравственный облик вызывают у него только горькие сетования или самоиронию (сонеты 29, 30, 37 и др.).
Но – «красота спасет мир», как будет сказано через два с половиной века другим великим писателем. Автор «Сонетов» необыкновенно остро воспринимает красоту (как и ее отсутствие) и в природе, и в людях. Объяснение общего несовершенства мира он ищет в популярной философии неоплатонизма с ее представлениями о том, что видимый мир – это всего лишь мир плохих копий, или «теней», порожденных недоступными идеальными сущностями, или «субстанциями». Все прекрасное в мире – лишь «тени» непостижимой идеальной красоты. Однако, по счастью, есть одно исключение – Друг. В нем идеальная красота воплотилась во всей полноте, она в нем так сияет, что сама облагораживает все вокруг (сонет 53).
Читать дальше