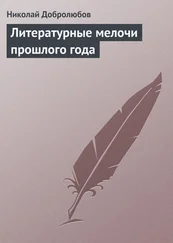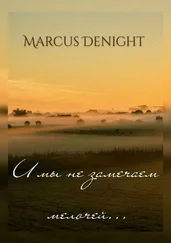«Где-то в городе, где метель…»
Где-то в городе, где метель
оставляет свои шаги
робким звоном – к беде, к беде
(из огромной скупой руки
это быстрое серебро,
как привычка к чужим словам) —
беспричинное зло-добро,
или истина пополам.
начинаю к иным быть прав,
вероятно, что от любви…
Недосказанное – «пора»,
и не понятое – «привык»…
Забываюсь. Но вдруг больной —
и без правил, и поделом…
…а за окнами снег слепой,
в белой лодке, с одним веслом…
Может быть, она та,
которую полюбят потом…
– Потом? – спросила, – А это когда?
В который час? Под который гром?
Потом декабрьская звезда,
потом ошалелый глухой перрон,
потом шершавая ткань листа
и тихий, чуть странный, чуть слышный звон
как стон, как полудетский сон…
«Старинной музыки ненынешний простор…»
Старинной музыки ненынешний простор,
как украшенье звездного пространства —
и возвращенье из далеких странствии
ее глубокий полуразговор,
чуть слышимый, почти незаменимый,
чуть знаемый среди моих миров,
когда уходит солнце из дворов,
в китайской лодке проплывая мимо
проросших зерен городских холмов.
«Сегодня солнце длилось три минуты…»
Сегодня солнце длилось три минуты
на пашнях свежескошенного льда,
и в позабытых Богом городах
мелькали тени детской смуты.
Так шел распад —так звучилась кантата
замерзшей и заснеженной земли,
последний довод били короли,
окучивая небо ватой…
…так шел распад – как Каин к смерти брата.
«…прими как должное и поминай, как звали…»
Реальность спешит, проявляет себя вовсю,
(…) вот тут-то мы (…) и срываемся с
цепи – словом, пускаемся во все тяжкие.
X. Кортасар
…прими как должное и поминай, как звали
по имени, в последний срок зимы,
коль города заснеженное ралли
запляшет, засмеется в скобках тьмы —
умыться кровью, право, не наука,
так долго ждать, чтоб кончилась капель,
так долго ждать усталости и звука,
Протяжного, как спелая свирель…
…остаток дня на кухне и за чаем,
остаток солнца, срытого на треть —
но женщина с упрямыми плечами,
но. Господи, как хочется посметь
пуститься во все тяжкие, как в прорубь,
как в прорванное небо свысока,
поставить точку в новом приговоре
пощечиной метро и пятака.
…так, при смерти, становишься богаче.
Бессонница. Гомер. Тугие паруса…
О. Мандельштам
…верно, можно любить Итаку
лишь вдали от самой
Итаки… – А сегодня здесь все знакомо,
даже сны много лет не снятся.
– Где Улисс? – Несомненно, дома. —
Он давно перестал скитаться,
успокоился. – Сыт и скучен.
Сын да женщина, кот и слуги,
приносящие постный ужин.
Перед трапезой, вымыв руки,
он садится к столу, зевает,
смотрит на море…
День без памяти. Ночь без греха.
Тело города схвачено мелом…
Время, снова слоняясь без дела,
порастать серебристостью мха,
утопая в страницах Гомера
(о, бессонница – рай для души),
ничего не пытаться вершить —
да и к вечеру кошки все серы,
закурить, захандрить, но опять:
– Что вам Троя, когда б не Елена…
И на весла нависшая пена
Афродитой намерена стать.
Поздно судить по вере,
рано сводить к рублю —
верили на премьере
древних, как мир, «люблю».
Верили… было… В осень,
в пристнозабытый год —
словно слепые осы
бились о стройность сот,
претерпевали муки
хрупкие корабли…
…мимо Итаки, в скуке,.
вдруг повернул Улисс.
«И вот мы – такие же вечные…»
И вот мы – такие же вечные,
но убегающие от вечности
в маленьких судеб хрусталики,
в воспеванье своих усталостей,
в шумных улиц крикливую проповедь
и во блуд перекрестков топтаных,
в тарабарский язык трамваев,
забываясь и вспоминая —
не себя, но кого-то близкого,
в черном небе, рассыпанном искрами..
«Из последней суеты – да в бега…»
Из последней суеты – да в бега,
из прелюдии весны – в дым-угар,
из усталости дождя – в пустословь,
из пощечин мостовых – да в любовь.
Я не знаю. И знать не могу…
Я не помню… и вдруг навсегда —
человек на холодном снегу
и над ним вороньем провода…
…и опять, то ли вплавь, то ли вброд,
уходить под Тамбов да в народ…
Читать дальше


![Николай Румянцев - Победа Советской Армии в Заполярье [Десятый удар (1944 год)]](/books/24680/nikolaj-rumyancev-pobeda-sovetskoj-armii-v-zapolyar-thumb.webp)