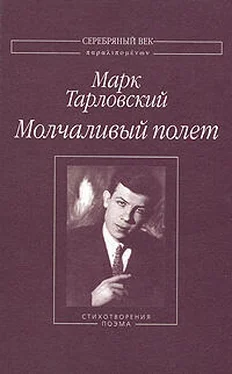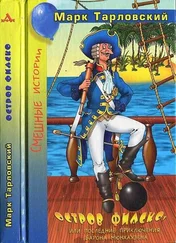Половину «Рождения Родины» составляют «переводы». Беру обозначение жанра в кавычки, потому что большинство этих вещей подозрительно смахивает на мистификации. Ну, хотя бы тем, что они… анонимны: в подзаголовке просто указано «с якутского», «с татарского» или «с узбекского» <���…> Расчет Тарловского строился, вероятно, на том, что в пору официально поощряемого увлечения культурным строительством многонационального «союза нерушимого» на такую мелочь едва ли кто обратит внимание. И можно, ничем не рискуя, приписать строчки:
В глубинах грез ты, как безглазый крот,
Глядел на жизненный круговорот, —
безымянному якуту, который сроду кротов не видал… [316]
О причинах, по которым стихотворения напечатаны анонимно, сейчас речи нет, но якут (как и все прочие), оказывается, отнюдь не был безымянным. Одуор Моруо, он же Илиадор Дмитриевич Тимофеев, в 1930–1931 выпустил в соавторстве с Георгием Устиновичем Гермогеновым-Эргис первый самоучитель якутского языка. Если он и не видел живого крота, то, надо полагать, как филолог знал, что это за животное. Да и необязательно видеть живого крота, чтобы упомянуть его в своих стихах. Кстати, «старым кротом» называет Тарловский К. Маркса в стихотворении «Мыслитель», не допущенным ни Багрицким в «Бумеранг», ни Сурковым в «Рождение родины». Сурков знал, чем кончаются попытки бежать впереди паровоза, потому и прожил чуть не 84 года, пережив не то что Сталина — даже Брежнева. А Тарловский, хорошо изучивший нравы восточных деспотов, знал, что в стране не бывает больше одного падишаха, потому и подал в Гослитиздат на имя А.П. Рябининой (оставившей по себе в издательстве добрую, без кавычек, память) заявку на книгу «Поэты Сталинской эпохи».
От характеристики оригинальных стихотворений «Рождения родины» лучше воздержаться, тем более что Тарловский прекрасно осознавал, какая участь ожидает его по выходе этого сборника. Он приложил некоторые усилия, чтобы сделать свое детище более… человечным. В письме в Гослитиздат от 15 января 1935, униженно прося расширить сборник на пять стихотворений, он резюмирует: «Эти вещи необходимы в моей книге, потому что без них центр тяжести сместится в сторону имеющихся в ней переводов, а это мне невыгодно как самостоятельному автору, и я этого, наконец, просто не хочу. Пусть это несколько “трудные” вещи, но они нужны, потому что без них книга станет слишком легковесной, отчасти даже газетной, а для автора с таким литературным прошлым, как мое, это — зарез, это чревато обвинением в приспособленчестве. Моя книга целиком составлена из вещей, написанных на общественно-политические темы. Это сделано сознательно. Но известно, какие книги выпускал я раньше. Пусть же читатель видит, что ломка во мне идет органическая, а не приспособленческая, пусть видит, что на такие темы, где, к сожалению, до сих пор царит еще газетный шаблон, я пишу не шаблонно, что этими темами я овладеваю не по линии наименьшего сопротивления. А для того, чтоб он это видел, надо включить в книгу прилагаемые здесь стихи, и об этом я прошу » [317].
Всё правильно. Всё он понимал, даже если переоценивал роль, которую могли сыграть в сборнике так и не включенные в него пять стихотворений. Всё понимали и его адресаты — ответственный редактор сборника тов. Сурков, политредактор Госиздата тов. Румянцева, уполномоченный Главлита при Гослитиздате тов. И.М. Рубановский. «Зарез», наступивший для поэта Марка Тарловского с «Рождением родины», был куда страшнее того, которого он боялся.
*
Летом 1935 Тарловский предложил редакции журнала «Красная новь» поэму «Веселый странник» — стихотворные мемуары об Эдуарде Багрицком. Рукопись вернули, для приличия предложили доработать. 8 октября 1935, перед очередной командировкой в Алма-Ату, Тарловский сдал доработанный вариант, сопроводив его письмом, в котором, кстати, писал следующее: «В моей “воспоминательной поэме” взаимодействуют вообще два начала — ирония и пафос. Между этими началами в поэме, по-моему, установлено равновесие. Ирония спасала меня от чрезмерного возвеличивания персонажей (главным образом, окружавших Багрицкого), а пафос, наоборот, — от чрезмерного снижения этих персонажей (главным образом, самого Багрицкого). Всем, когда-либо читавшим мои стихи (а вы их читали), должно быть известно, что это взаимодействие между пафосом и иронией вообще присуще почти каждой моей работе. Поэтому пусть не смущается тов. Митрофанов наличием этой особенности в моей поэме, наоборот, — пусть он видит в этом ее достоинство» [318]. Судя по тому, что поэма осталась неизданной тов. Митрофанов А.Г. (1899–1951), консультант «Красной нови», смущаться не перестал.
Читать дальше