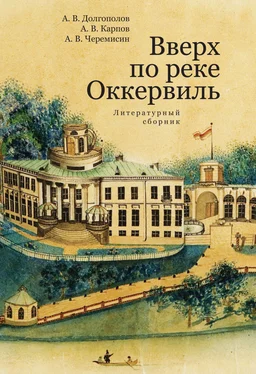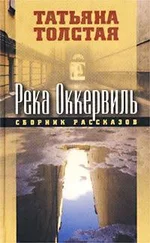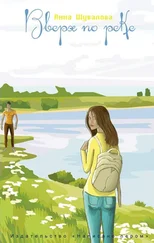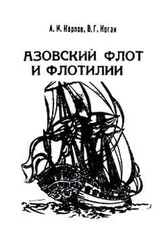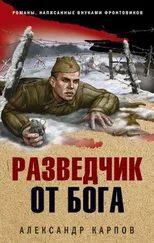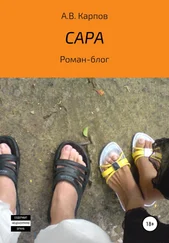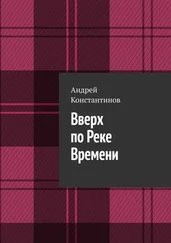работы займут несколько лет.
Как известно, начиная с 1870-х гг. Уткина дача использовалась для нужд различных благотворительных и медицинских учреждений; одно из них на рубеже столетий посетил и описал в своем журналистском очерке Александр Чехов (старший брат писателя и отец артиста Михаила Чехова), публиковавшийся в тот период под псевдонимом «А. Седой». Он остановился на весьма безрадостном внутреннем быте находившегося здесь приюта-лечебницы для душевнобольных женщин, отметив, впрочем, что пациентки «обставлены довольно хорошо, и кормят их… хорошо и сытно» – «в большом барском доме они занимают два этажа, над которыми помещается часовня». Чехов отметил, что в здании «есть и круглая зала со стенами, отделанными под мрамор, и гостиная с аллегорическими сценами на потолке, и неизбежная китайская комната с причудливой живописью». Его несколько удивило, что в этой окраинной местности, выбранной городским начальством для размещения умалишенных, совершенно отсутствуют тишина и покой. Противоположный охтинский берег был занят тогда «многочисленными лесными складами и лесопильными заводами, а все русло покрыто плотами, лесом, лодками, барками и тяжело двигающимися, неуклюжими буксирными пароходами», свистки которых «не замолкают ни на один час». А на другом берегу Оккервиля, сразу после мостика, начиналась улица с многочисленными и шумными «питейными заведениями». Но это не сильно мешало размеренному распорядку приюта; «спокойные» больные свободно гуляли в приусадебном парке, а также «охотно и подолгу» сидели «на обрывистом берегу Охты», любуясь «ее жизнью и движением» [4] См.: Чехов А. (А. Седой) 1. Призрение душевнобольных в С.-Петербурге. 2. Алкоголизм и возможная с ним борьба. СПб., 1897. С. 59–69, 114.
.
Упомянутая Чеховым небольшая улица, с 1900 г. именовавшаяся Уткиной, а позднее ставшая частью Республиканской, существует и сейчас. Имеется и мостик – современный, но находящийся примерно там же, где и старый. Стоя на нем и глядя на мутные оккервильские воды, можно вспомнить и о безвозвратно ушедшем времени Полторацких-Олениных, и о тревожной предреволюционной эпохе, превратившей усадьбу блистательных аристократов в сумасшедший дом (в этой по-своему фантасмагоричной истории явственно ощутимо предзнаменование гибели старой России и безумий социальных экспериментов XX века).
Неухоженной и загрязненной рекой не брезгуют утки, весело ныряющие и поднимающие брызги взмахами крыльев. Еще не так давно ее окрестности представляли собой вполне загородный пейзаж. По правому берегу Оккервиля (с обеих сторон от нынешнего Заневского проспекта) располагались, вплоть до начала 1990-х гг., деревни Большая и Малая Яблоновка. Стояли одноэтажные домики с прилегающими садами и огородами, бродили козы и куры. Сельский уют и уклад, соседствующий с плотными массивами городской застройки, вызывал одновременно и радость, и удивление. Но с каждым годом остатки деревень обступала цивилизация асфальта и бетона, однажды окончательно переведя их в область воспоминаний. Вблизи берегов реки и исчезнувшей деревеньки недавно появился новый православный храм св. апостола Андрея Первозванного (Заневский пр., 65, корп. 6), освященный в 2017 г. Возможно, рядом с ним будет организован культурно-просветительский центр во имя св. Романа Сладкопевца, небесного покровителя поэтов и музыкантов [5] Строительство Андреевского храма было долгим и сопровождалось преодолением различных препятствий. Существенную помощь в деле его создания оказали петербургские рок-музыканты: Борис Гребенщиков, Всеволод Гаккель и др. (в репертуаре группы «Аквариум» есть песня «Река Оккервиль», на стихи Анатолия Гуницкого). Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за рассказ об истории храма его настоятелю протоиерею о. Виталию Магдееву.
, и Оккервиль станет в еще большей степени «поэтической рекой».
Республиканская улица вблизи моста через Охту пересекается с проспектом Шаумяна. В начале XX столетия он именовался Киновиевским, и здесь начинал свою столичную «литературную жизнь» тогда молодой и неизвестный, а впоследствии крупный российский писатель Михаил Пришвин. В рассказе «Город света» он описывал, как «в 1905 году снял себе деревянное жилище в четыре комнаты за четырнадцать рублей в месяц на Киновийском проспекте Малой Охты. Этот проспект был крайней улицей города и выходил между вонючими свинарниками в пригородное болото. Грязь была на этом “проспекте” такая, что, помню, один редактор так и не доехал до меня: извозчик отказался ехать еще на Марьиной улице, и гость пришел ко мне, утопая по колено в грязи. Я же сам ежедневно ходил в город в тех самых смазных сапогах, в которых путешествовал и охотился…». Несмотря на непролазную грязь и удаленность от центра, эти места оказались для Пришвина не случайными: «Начав свое любимое дело на Киновийском проспекте, я за него крепко уцепился, и оно стало мне делом жизни. <���…> я дал себе клятву ни в коем случае не работать на внешний успех. Но… кое-какой успех был, и я по мере успеха перебирался с Малой Охты на Песочную, с Песочной на Петербургскую сторону, и наконец, на более благополучный Васильевский остров, где и встретил весну 1917 года». Деревянного дома, где жил Пришвин, конечно же, не осталось. Сейчас этот район вполне ухожен и благоустроен; посередине проспекта – каштановая аллея. И теперь совсем невозможно представить, как выглядел тот старый «пришвинский» Киновиевский проспект.
Читать дальше