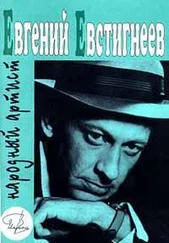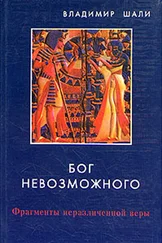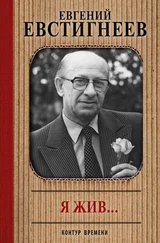Когда разлуки речь – что Львов для харьковчанки,
Один – с руки – в огонь, ей – в губы сердца: в ранку,
Разлуки речь вкусив, по-птичьи, спозаранку, —
Небесного питья! – день режется в молчанку.
Когда разлуки речь, сметая роты вех,
Ворвется в небеса до ласточкиных стрех,
Чтоб черно-бурых туч ознобом вздыбить мех, —
Расслышит тонкий слух вдруг серебристый смех.
Дай лишь город-ковчег хоть вполглаза уснет —
Твой портрет поцелую украдкой.
Ведь иная душа попирает и сот,
А голодной и горькое сладко.
Посылать голубей – пусть найдут Арарат,
Где ручьями бессонные речи,
Где уста не стыдясь об одном говорят, —
Не летят – всё мостятся на плечи.
Это море кругом, этот мартовский снег,
И нигде ни надежды на сушу,
Ни надежды на встречу… И мчится ковчег,
Собирая бесслезные души.
Только Рыба, играя, всплывет из глубин,
В лунной чашке начнет кувыркаться.
Это карп, власть имеющий, карп-господин
Ставит стрелки – двенадцать-двенадцать.
На часах, на костяшках, на календарях
Нам спасенье обещано вскоре.
Нынче – как при баснословных царях:
Только знай, сеть закидывай в море.
И позор, и утраты, и тяжкий недуг —
Вот они: искупленье доступно, —
Лишь свидетельство губ и свидетельство рук
До конца, до конца неподкупно.
1.
Так странно все и так невозмутимо,
Что даже страшный и ревущий traffic
По правилам прокатывает мимо,
Обдав зияньем тишины и блефа.
И можно, очевидно, догадаться
О предстоящем содержаньи речи,
Как судят наспех о сосисках датских
И непереводимых снах овечьих,
Как судит город, импортом уставлен
И точно баритон цветами трачен,
О назначеньи в нем сокрытых спален
И карамзинском слоге новобрачий.
И непереводимою игрою
Двух синтаксисов встали виадуки,
За “я пойду” стоящие горою,
Но рцы: прощай, – и заломают руки.
И невесомо, вопреки усталым
Промерзлым насыпям, фундаменты укрывшим,
На сером фоне желтые кварталы
Парят, преображаясь в смысле высшем.
2.
А может, это старые обиды
Болят, – а кажется – тоскует сердце.
И в каждом кабинете есть и иды,
И календарь, в который плохо верится,
И бытовое так организовано
Пространство и рассчитано по долям,
Тригонометрией соединяя Овна,
Допустим, с именами “ты” и “дева”.
И лучше понимаешь астрономию
В ее святом исповедальном замысле,
Когда как символ пироги огромные,
Ликер, приборов строй стеклянно-масляный,
И Сен-Жермен картофельный романский,
И отбивных бестактные намеки,
И подростковый вдруг озноб шампанский
Свидетельствуют нам о подоплеке
Божественной и непереносимой,
Соперничающей с Эратосфеном,
Как поцелуй, как пальцы – мимо, мимо,
Где грусть, шампунь и опадает пена.
3.
И поцелуй, как снег неутолимый,
Как невозможно-белое на черном,
Неудержимо тает, мимо, мимо,
Пространством неопределенно-спорным.
И мимо я гляжу с улыбкой странной,
В мой абажур все “нет” твои слетелись,
И в языке моем они желанны
И утвердительную обретают прелесть.
И вот, самостоятельны и властны,
Все безделушки, ручки и расчески
Фигурой умолчанья скажут ясно
Об истине невероятно плоской,
Как ржавеет в прикосновеньи света
Крем белоснежный, легкий, витаминный,
Всегдашнее “один” и “не об этом”
На дне одышки мертвенно-интимной,
На дне ее, во мраке поцелуя,
Не ближе ль паспорта тебе, скажи на милость,
Не царствуя, не видя, не ревнуя,
Душа моя тихонько притаилась.
Кто так слеп, как возлюбленный, глух, как посланный Мой?
Ис. 42, 19
Как худые, небритые греки
Вечер будет на радости скуп,
Мне изранишь крылатые веки
Поцелуями сомкнутых губ.
Истончится эмаль небосвода
До сияющих звездных столпов —
И в неслышном ковчеге свобода
Мой покинет завистливый кров.
Поплывет, словно месяц по краю,
Отороченный снежной каймой.
Смертным эхом за Ним повторяю:
Кто столь слеп, сколь возлюбленный мой?
Читать дальше