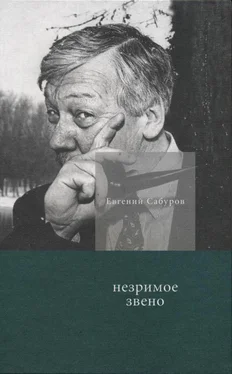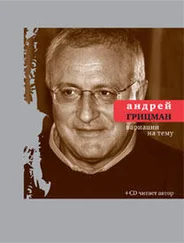На время я тебя оставил,
площадка голая светла,
ступенька стертая блистает —
поодаль жизнь моя прошла.
Я целиком, еще не рублен
с того булыжника пошел,
смолой задет, лучом обуглен,
с тавром вколоченным в плечо.
О, если бы заметить сразу,
о, если бы понять, что нет
отмены сделанному, сказанному,
нарвавшемуся на ответ!
Но и клейменый бык бессмыслен.
Булыжник сер. Она туда,
а мне – ради неё – всё кислым
шибает в нос моя езда,
моё разбрызганное лето,
рукопожатья и толчки
и чай до розового света
на пепле утрешней тоски.
12.
Тот, играющий со мной
белый отблеск дней-огней,
этот, черен и проворен,
пучезарен, тучевздорен,
чьей-нибудь хотя б виной
кто-нибудь хоть покрасней!
Но дебело черно-бело
поездное сердце вдовье —
чушкою одервенело,
шавкою осатанело.
Тот ли поезд этот поезд,
на котором еду я,
не по делу канителю,
украшаемый любовью,
тело пестрое крутя.
Дело наше нехитро:
темное осталось темным,
светлое всегда добро,
а вот жил и вот не помню.
Я стою посередине,
зеленею весь в слезах.
Что осталось в поездах?
Я не помню – ты невинен.
Все я выжал из того,
что намеком-экивоком
можно выдать за тавро
в размышлении глубоком.
13.
Балдеж, кто понимает. Подрастая, мы
становимся похожи на верблюда,
и съеденное в детстве блюдо
всё прыщет соками в умы.
О, произвольный выворот горба
налево и направо и налево!
Гуляй туда-сюда краюха хлеба,
двоюродная спелая сестра.
Бабуля, ах, бабуля, ах, бабуля,
ну, неужели так уж никуда?
Я жить хочу, меняя города,
а ты висишь луной на карауле.
Любая блажь доказывает лишь,
что я не самозванец, я мол здешний.
Рванусь, а ты уже поспешно
и наплывешь и тусклая стоишь.
Скажи, но если имя – это имя,
а мы лишь удержаться не сумели,
а важно то, что есть на самом деле,
как жить мне, если я не с ними?
Но ты мне говоришь, что «есть» не только, что
не «что», но даже не ярлык,
а этот звук и тот клеймёный бык —
пустое решето и решето.
14.
Не может быть сомнений:
я умер для тебя.
Зачем же в снах весенних
мне о тебе трубят?
Зачем тела прошедшие
слагаются в слова,
идущие про женщину
знакомую едва?
Зачем всё собирается
и, скручиваясь в нить,
старается, петляя,
тебя одну избыть?
Ведь я подвластен времени,
и в зимних поездах
я видел белой темени
планирующий прах.
Казалось, отвязалось
и кубарем стремглав
под насыпь проплясало
из сердца да из глаз.
Зачем же, не тоскуя,
вхожу в небывший миг,
где вечность поцелуя
слетает на язык?
15.
За то, что день настолько мил,
за то, что ночь полна
наружу вылезших светил
нам на глаза со дна,
с такого дна, которое
не выщупать – смешно,
что мы войдем в историю,
упав на это дно —
так вот за то, что есть еще
возможность не влипать,
уже объявленный щелчок
попридержи опять,
дай право жить и право быть
счастливым собеседником
и не пиши меня в рабы
ни первым, ни последним.
Вести себя как господин,
вообще пристало ль Богу?
Мне, кажется, что я один
и не спешу как блудный сын
в обратную дорогу.
16.
Не дли трагический надрыв,
не обольщайся рваным краем,
душа моя, сопи, играя,
попрыгивая через рвы.
Повизгивая от тоски,
своей обидою дурачась,
чего ты так серьезно плачешь,
чего ты колешься в куски?
Не соглашайся и судись.
Кому нужна твоя растрава? —
взыскующий паяц пространства,
весь мир на полдень полон птиц.
Он время, кой-где подогнув,
теперь укладывает лихо.
Дуреха, не хватает мига —
и можно будет отдохнуть.
Но ты и тут не согласись,
тычь пальцем и не прерывай:
поставила? – давай играй
на этот мир, на эту жизнь.
А поезд, город – только блажь,
как сшибся конь за шаткой стенкой,
как надоумилась студентка
повольничать через соблазн.
Между 1976 и 1977
Читать дальше