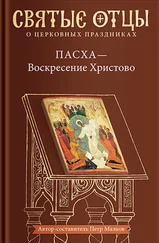Время шло в трех скоростях (как будто в разных пространствах): по меркам этой палаты все тихо тянулось, по меркам жизни то было мгновение… По меркам тех мягких глыб, что вращались в душе, как жернова, растирая сознанье и убивая все чувства – время стояло, и сколько жизней уйдет, чтоб закончился этот процесс, и вообще – ну а буду ли жить, было не ясно тогда, как теперь – как будто вход в саму вечность, времени нет, есть падение. Что я сейчас, а что в тамбуре – неразличимо. Дорога, впрямь, стала «дальней». Боль от тех брошенных ею нечаянных слов не поддается наркозу – я все попробовал, не поддается. И что уж тот мартышонок – фигнюшка. Внутри по-прежнему корчит. Только душа научилась сжиматься, когда встречается с чем-то подобным, лишь с подозрением на это – почти уходит контроль над собой – «ничего мне здесь не нужно, только не это, не надо».
Неинтересно, что можно увидеть вокруг – универсальные лица, такие, чтоб видели все, они скорей говорят о прошедшем – напластовалось, слилось, плюс его прежние мысли, желания. Но, больше этого, лицо его – баннер-лозунг, его программа по жизни. Только и это не важно. Вот и выходит, что его лицо это не правда о нем, а что-то так – лишь флюид… Есть на поверхности еще один горизонт, он появляется и исчезает – это намерения-тайна, будто рычание скрытых зверей, если внимателен, видеть нетрудно. И хоть они удивляют всегда, ничего важного в них тоже нет – ну опять жадность, ну злоба – за этим нет перспективы… А вот другой горизонт чуть поглубже, и на поверхности лиц не выходит, видно его только внутренним воображением. Здесь, правда, нужно, чтоб ты не сказал сам себе, что это просто фантазии-бред, а попытался понять и всмотреться. Что видно здесь – это уже совсем не зрачком, а всем тобой вместе с прошлым – переложение всех его черт, изменений лица по ситуациям или в ответ на слова – вот это, третье, живет в настоящем. Но только это не есть человек. Я бы назвал это – демон. Именно он, будто формула, все и решает, он есть какая-то правда. Мы не привыкли так видеть, эта картинка уходит, как будто ничто, но если сбросишь ее – ошибешься. И первый уровень вновь заполняет глаза – просто лицо человека… Это все ладно, но все же – тоска, мне оно точно не нужно. Крутятся «демоны», варят котел, но для меня это чуждо. Если б я знал, «что есть я», я бы сказал, как должно было б быть, а так – смотрю, будто пленник.
Здесь в основном появляются три странные птицы – они, конечно, не птицы, просто не знаю, как еще назвать. Одна – коричневых, темно-лиловых тонов, цвет этот полупрозрачен – темное слабое полусвечение, но то, что видится через него, вовсе не то, что за нею, а все сознание в ней. Смотришь в него, углубляешься, и выясняется, что все внутри было светлым, просто насыщено цветом – темно-лиловый стал розовым – линии падают вниз, и чем ты дальше, тем мчатся быстрее. Вдруг появляются полупоющие звуки – стон, нестихающий визг и гудение – совсем не звук, настроение. Ты погружаешься в это, и оно меняет тебя, думаешь так, как оно – без тени прежнего знания, весь ты из прошлого сам себе чужд и отвратительно мелок. А пустота розоватых свечений вдруг разрастается в бездну, и самому уже хочется что-то кричать, рвать своим криком иного. Если слегка приподнимешься, вспомнишь себя – видишь огромные крылья, и снова это не крылья, а два живущих потока, что подбирают к себе все вокруг и чуть колышутся, дышат. В них, как скелет, управляет всем ночь, переходящая в черное, в серость. Взгляд его цепок, но иногда отстранится – он тебя слышит в такие минуты, но он тебе не ответит. Он был когда-то спортсменом, в нем до сих видна сила – мне вспоминается смерч, что повалил вековые деревья на древней дороге, нам опрокинул ворота, ушел по пруду на гору – так же и он, формула его не знает, что дальше. Сидишь и смотришь в лицо, отвечаешь, он говорит, и шевелятся губы, движутся его глаза, фразы его проникают в сознание, и ты ему отвечаешь, кивая – а его птица висит, что-то ткет, и вырастает покорность. Он и не знает про эту свою ипостась, а если скажешь, то будет считать, что ты слегка обкурился, и птице станешь не так интересен – ей нужна свежая кровь, но кровь должна быть здоровой. По всем приличиям – час, слушаешь, видишь – птица слегка отдохнула, набралась воздуха через тебя и вместе с ним улетела.
Когда приходит другой с бородой, как у Маркса, если бы он не чесался ни разу, в разные стороны клочья, и будет умничать – вянешь, в ответ вставляешь насмешки – он не обидится, будет доказывать дальше смесь его истин-находок под христианской подливкой. Глаза его за бронестеклами толстых очков, очень растерянно, порой моргают. Тут твоя птица завоет – опустить голову между колен – то ли рыдать, а то ли чтоб материться. А его птица значительно больше – черно-коричнева и шоколодна, как шляпы «белых» грибов, взмахи ее много шире – так, что вбирают весь воздух, ты задыхаешься, стонешь. Светлое на глубине его шире – ты в него входишь, как в рай – все внутри обетованно. Оно готово обнять этот мир, мир, как паршивый котенок, не хочет, но птица его прощает. Она все машет и машет, а ты киваешь. Даль раскрывается невероятна, «а вдоль дороги» – они – «с косами» – идиотизмы. Как-то другие из наших гостей ночью гуляли по улице возле забора, он подошел к ним, шурша в темноте по траве, и поздоровался – он был в плаще с капюшоном, с косой, тем стало дурно. Он, как и первый, чего-то принес – лук и чеснок прямо с грядок – он нам не нужен, ну а не взять – неудобно. Жена дает ему в миске еду – поверх очков, поднеся ее к носу, он все рассмотрит. Нельзя селедку есть в пост – ее салат забракован. А птица счастья летит, унося его вверх – и мир огромен. Причем в свои пятьдесят, кажется, он не проработал ни года нигде постоянно – как такой полный, не ясно. Вчера «вкусняшка» его уползла – он так хотел съесть медянку, что поселилась под бочкой – не дождалась конца поста. Так как сиденье низко, есть только лицо, его колени и ступни. Он в офигенных его сапогах прошел леса и болота – его огромные белые пальцы на светлом ковре, ногти на них расслоились.
Читать дальше