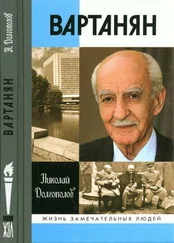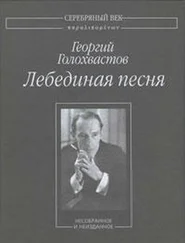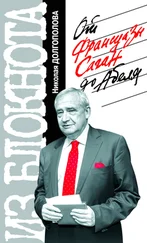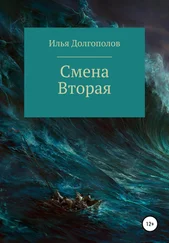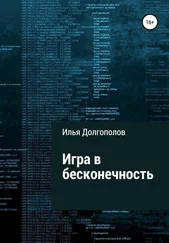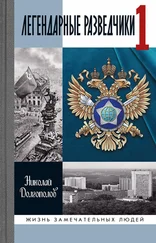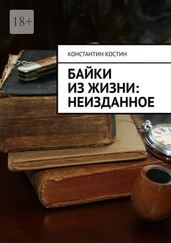Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;
Так, век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Развитием мысли Гумилева явились слова Блока в речи «О романтизме», которую он произнес в 1919 г. перед актерами Большого драматического театра, когда он сказал, что именно романтизм есть «условное обозначение шестого чувства», поскольку именно он представляет собой не что иное, «как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией. Человек от века связан с природой, со всеми ее стихиями; он борется с ними и любит их, он смотрит на них одновременно с любовью и враждой». Связь со стихией, считал Блок, и есть «связь романтическая». Блок шире подходит к проблеме «шестого чувства», оно для него не просто способ постижения тайны прекрасного, но еще и проникновение в природу мира, неизбежно стихийную, которая и есть воплощение высшей красоты как начала всего сущего. Прекрасное для Блока – творящее начало вселенной, и наоборот – творящее начало есть красота (прекрасное), как утверждал их общий предшественник Достоевский.
3
Как видно, одно дело, что человек хочет сотворить, и совсем другое – что он сотворяет. К Гумилеву это положение может быть отнесено с большим основанием. Занятый исключительно вопросами техники стихотворчества, демонстративно утверждавший, что он «учился эстетике в музеях» 75 75 Гумилев Н. С. Неизданные стихи и письма. Paris, 1980. C. 42.
, Гумилев гораздо более интенсивно впитывал настроения своего времени, чем это могло показаться и кажется некоторым критикам до сих пор.
У нас нет оснований непосредственно связывать перечисленные выше мотивы его творчества с напряженностью и общим ощущением неблагополучия, которое определило характер той переходной эпохи. Внешне Гумилев в нее действительно не «вписывается». Он кажется настолько инородным на фоне творческих исканий и Блока, и Белого, даже Бальмонта и Брюсова, не говоря уже о Вяч. Иванове, Волошине и других, менее значительных поэтах, что вопрос о том, как, почему, откуда в русской поэзии начала века возникло такое странное явление, как Гумилев, не будет ни надуманным, ни неожиданным. Гумилев – очень особое, специфическое явление в истории русской поэзии вообще. Но поскольку формирование его протекало в той же сгущенной атмосфере исторической жизни начала века, в которой формировались и его поэты-современники, он неизбежно нес на себе «груз времени» (выражение Блока). Несмотря на то, что понятие рока у Гумилева лишь с оговорками может быть соотнесено с историческими закономерностями времени, оно, как говорилось выше, может быть сопоставлено с ними . В самой этой допустимости уже открывается путь к постижению и творчества, и личности Гумилева как явления исторической среды. Живущий в определенную историческую эпоху, он неизбежно соприкасался с нею и в своем творчестве. Историзм тут был неизбежен, хотя бы и невольный. Зависимость от времени медленно, с отступлениями, но все нарастает в творчестве Гумилева, раздваивая сознание, погружая его в пучину противоречий, которыми чревата была сама революционная действительность. Наглядно она находит свое (идущее от А. Белого и его романа «Петербург») выражение в форме «заблудившегося» времени, напряженно отыскивающего свои подлинные координаты. Вместе с временем отыскивает свои «исторические координаты» и человек – герой его стихов и драматических произведений. Как и в философской этике поэтов символизма, настоящее (как философская категория) отрицается Гумилевым, оно лишь миг, мгновение, отдаленно сопряженное с прошлым и тут же переходящее в будущее. Как отрезок времени оно не существует ни в сознании поэта, ни в историческом воплощении. С предельной ясностью он сказал об этом в стихотворении «Молитва» (сб. «Жемчуга»):
Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее,
Солнце, сожги настоящее
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!
Значительность и необратимость происходящего вот сейчас, в революционные годы, осознается теперь Гумилевым сполна. Именно поэтому дело тут не в рабочем и отлитой им пуле. Как видно, собственная гибель мало волнует Гумилева. Он уже настолько вырос к этому времени и оформился как поэт со своей философской и эстетической концепцией, что его творчество объективно приобретает эпохальное выражение. Как человек до известной степени религиозный, Гумилев связывает будущее торжество светлых начал жизни (а он много думал и писал об этом) не столько с каким-либо учением, нравственной или социальной доктриной, сколько с внутренним обликом чтимого им Христа, которого он, не подвергая сомнению легендарное происхождение образа, просто считал самой светлой личностью в истории человечества, показавшей редкий, единственный пример жертвенного служения людям.
Читать дальше

![Николай Долгополов - Оперативный вальс в германском посольстве[статья]](/books/92514/nikolaj-dolgopolov-operativnyj-vals-v-germanskom-thumb.webp)