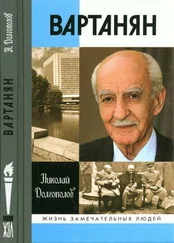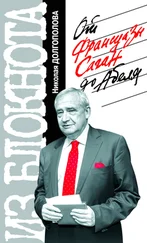Но, демонстрируя верность учителю, Гумилев одновременно демонстрирует верность и самому себе. Если Брюсов двигался в своем развитии, четко отмеряя расстояние дороги от одного верстового столба до другого, то Гумилев овладевал поэтическим пространством лавиной – лавиной тем, мотивов, образов, ситуаций, которые, повторяясь и наплывая друг на друга, создавали невиданный еще «поэтический контрапункт». Именно поэтому Гумилев в своем развитии не столько расширяет свою образную и тематическую палитру, сколько углубляет и как бы усиливает ее, отдавая предпочтение то рационализму, то иррационализму, то Помпею, то господу богу, то Христу, то бесстрашному капитану, то жирафу с озера Чад, то заблудившемуся «в бездне времен» трамваю. И хотя вещь или чувство, обратившие на себя внимание поэта и превращенные его воображением в художественный образ, обладают своим наполнением, цельным и неделимым, мир, окружающий поэта и данный ему не только в вещном восприятии, но и в отвлеченно-категориальном осмыслении, этот мир лишен в представлении и творчестве Гумилева какого бы то ни было единства, он разбит, раздроблен; поэтом отнята у него самостоятельность и самоценность, а взамен дан авторский произвол, в котором эстетская безвкусица соседствует с поэтическими открытиями немалого значения. «Изысканный» жираф, бродящий где-то на берегу озера Чад, действительно, безвкусен (здесь критика права), а вот в соседнем стихотворении «Ужас», в его начальных строфах уже предчувствуется кошмар кафкианского иррационализма:
Я долго шел по коридорам,
Кругом, как враг, таилась тишь.
На пришлеца враждебным взором
Смотрели статуи из ниш.
В угрюмом сне застыли вещи,
Был странен серый полумрак,
И точно маятник зловещий
Звучал мой одинокий шаг.
Строка из стихотворения «Христос» «Он идет путем жемчужным» неожиданно всплывает в «Двенадцати» Блока («Снежной россыпью жемчужной»). Завет, данный Брюсовым поэту:
Да будет твоя добродетель —
Готовность взойти на костер, —
развивается Гумилевым в стихотворении «Волшебная скрипка» (хотя в романтическом многословии Гумилева тонет отточенность брюсовской мысли). Гумилев очень неровный поэт, только к 1920–21 гг. стиль его выравнивается; «Костер» (1918) и «Огненный столп» (1921) являют собой образцы вполне оригинальной художественной системы.
Упоенность словом, завороженность собственной грезой есть также важнейшее качество поэзии Гумилева, о чем хорошо сказал Вячеслав Иванов в рецензии на сборник «Жемчуга» (1910): «Гумилев подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в своем упоении» 71 71 Аполлон. 1910. № 7.
.
Вот эта способность хмелеть мечтой , даже плоской и часто банальной, оставаясь при этом рационалистом и «теоретиком», человеком мысли, а не страсти, и сделала Гумилева неповторимой фигурой в поэзии начала века. Он ввел в литературу экзотику, доселе чуждую русской поэзии, но при этом вскрыл ее связи с внутренним миром человека.
В «Жемчугах» он уже обретает собственное лицо, хотя где тут подлинные черты, а где маска, где боль выдуманная, а где настоящая, где мальчишеская игра, а где дуновение искусства – сказать трудно. С Гумилевым пришел в русскую литературу новый тип художественного мышления и творчества, когда игра словом и воображением, выдумка (выдуманное чувство, экзотическая ситуация, неожиданная картина) могли подняться до высоты подлинного искусства.
Сборник «Жемчуга» тем и был значителен, что здесь впервые собраны воедино и художественно выявлены многие главные качества и свойства поэзии Гумилева: неразрывное переплетение в ней искусственности и искусства, владение словом, наличие духовной сущности как нравственного эквивалента «лирического героя» и вместе с тем мотивы неотвратимой гибели, жестокого конца, имеющего форму рока. Как и в предыдущих сборниках Гумилев до предела насыщает свои стихотворные зарисовки и немногочисленные лирические излияния общеромантическими штампами, не имеющими ни корней, ни традиции, но ему как-то удается на этой зыбкой основе построить свою картину мира, игрушечную и забавную, в которой, однако, имеется одна очень важная подлинная черта. Эта черта раскрывает себя в истинности и серьезности отношения к созданному миру самого его создателя – героя- поэта, поэта-архитектора, предстающего перед нами в десятках экзотических обличий. Ни одно из этих обличий мы не принимаем всерьез – слишком уж всё это красиво и недостоверно, – но мы свято верим в то, что мир в действительности окружающий поэта, глубоко враждебен ему и его герою. Враждебен и неприемлем, ибо в нем царят безразличие, бездушие, бесчеловечность. И поэтому его надо либо покорить, подчинить своей – тоже жестокой – воле (цикл «Капитаны» – «детские» стихи, сказала о них Ахматова), либо, если это не удастся, погибнуть. Видов гибели в стихах Гумилева также много; погибнуть можно «славной смретью, страшной смертью скрипача», как сказано в стихотворении «Волшебная скрипка», или на ложе любви, или в рыцарском поединке, или просто от страха перед грандиозностью и непознаваемостью мира («Звездный ужас»). Гумилев постоянно пишет о гибели – может быть, это и есть самые искренние его строки. «Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели», – говорит Гумилев (автор) в рассказе «Принцесса Зара».
Читать дальше

![Николай Долгополов - Оперативный вальс в германском посольстве[статья]](/books/92514/nikolaj-dolgopolov-operativnyj-vals-v-germanskom-thumb.webp)