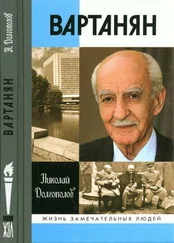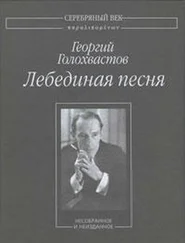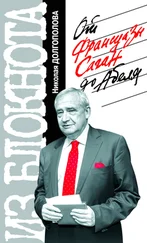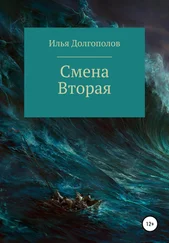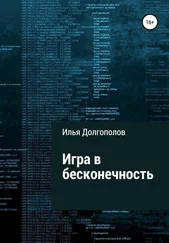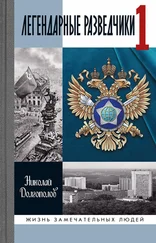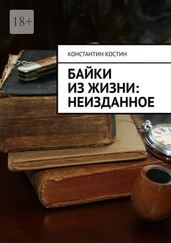Время как бы устает от перенапряжения. Усталость времени – не выдумка. Давно замечено, что массовая беллетристика, как и бульварная литература, особенно пышно расцветает в конце века. Она паразитирует на великих идеях прошлого, упрощая их, делая их идеями массовыми. Трудно представить себе Потапенко, Баранцевича, Шеллера-Михайлова среди поэтов и писателей середины столетия, когда творили Тургенев, Толстой, Некрасов, Достоевский, и тем более «серебряного века», но они как нельзя более на месте в литературе 80-х и 90-х годов. Они рассчитаны на уставших людей, желающих отдохнуть от величия концепций, развивавшихся классиками литературы. Бушует один Лев Толстой, но это исключение, подтверждающее правило.
Именно поэтому конец века всегда – подведение итогов, но не сотворение нового. Он живет соками прошлого, того, что было начато, открыто, развито в начале и середине столетия и что касалось, в первую очередь, понимания человека и его положения в той или иной социальной среде, истории, обществе.
Подобный процесс происходит в наше время, на наших глазах. Поэтому так трудно говорить сейчас о современном искусстве, которое только еще выпускает первые ростки. Оно даст о себе знать в начале будущего века – если закон, открытый А. Белым, «сработает» и на этот раз. Ныне же в литературе преобладают лишь попытки, опробуются подходы, выдвигаются предположения, но человек двадцатого века – новый человек – еще не виден нам. Кроме того, в России литература всегда была сопряжена с политикой, и этот фактор также нельзя упускать из виду. Бездонно глубокий рассказ Варлама Шаламова «Шерри-бренди» о смерти поэта на нарах в бараке колымского лагеря, может быть, самое жуткое из всего, что написано на лагерную тему, с невиданной доселе наглядностью намечает психологический силуэт человека нашего лагерного времени.
Собственно, подведение итогов начал уже М. Булгаков; недоумение по поводу происходящего – главный стимул творчества А. Платонова, герои которого живут и действуют как бы в некоем вязком растворе, приглушающем все их помыслы и стремления. Этот вязкий раствор и есть авторское недоумение. Изо всех сил стремятся понять герои Платонова, что же произошло и происходит в мире, и понять не могут. Вопрос поставлен, но не решен. И Булгаков, и Платонов, и Шолохов («Тихий Дон») – предтечи современных писателей, уже сознательно подводящих итоги целой большой эпохе русской истории.
Опыт, хотя и серьезный, но пока еще только опыт проникновения в психологические глубины и закоулки человека нынешней формации (сегодня он – следователь, палач, завтра – такая же жертва, и уже его истязают; сегодня он твой друг-приятель, завтра он пишет на тебя донос, и ты сам пишешь на него донос, и вот вы оба оказываетесь в одной камере и т. д., ситуаций здесь множество) предприняты и Ю. Домбровским в сильном и тяжелом романе «Факультет ненужных вещей», и А. Рыбаковым, и А. Битовым («Пушкинский дом»), и многими другими нашими писателями-современниками. Более определенны в своих выводах [В. Распутин (рассказ «Пожар»),] А. Приставкин, А. Жигулин, А. Авдеенко (неожиданно раскрывшийся в автобиографической повести «Отлучение»). Я уже не говорю о такой крупной вещи, как роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Итоги, итоги, итоги… Итоги того, что пережито, но начинает осознаваться только сейчас. Мысль Горького о том, что подлинную историю страны и народа пишет не историк, а писатель, снова получает свое подтверждение.
И дело ныне не в том, что одно произведение хуже (или лучше) другого, что, скажем, «Пожар» – удача писателя, а «Дети Арбата» – неудача. Подобный подход в нынешней ситуации просто неуместен. Литература, как и остальные виды искусства, идет сейчас наощупь, как бы в полутьме, ища новые формы и виды художественной изобразительности, пытаясь определить пути, по которым пойдет дальнейшее формирование личности.
Не историк-профессионал, а писатель Солженицын задумал и осуществляет серию романов-исследований, хотя здесь еще не обо всем можно говорить с уверенностью. Мы встречаем тут и использование сильных традиций литературы прошлого в изображении «маленького человека» («Один день Ивана Денисовича»), обнаруживаем стремление дать художественный комментарий к главному, великому труду, перевернувшему сознание многих миллионов людей, – книге «Архипелаг ГУЛАГ». Но вдруг неожиданно обнаруживаем традиции массовой беллетристики XIХ столетия, например, в романе «Август четырнадцатого», отчасти и в «Раковом корпусе». Солженицын работает одновременно в разных направлениях, хотя не всегда занят проблемой соотнесения их друг с другом. Не все из его романов хочется перечитывать, но сама личность его сделана, конечно, навсегда.
Читать дальше

![Николай Долгополов - Оперативный вальс в германском посольстве[статья]](/books/92514/nikolaj-dolgopolov-operativnyj-vals-v-germanskom-thumb.webp)