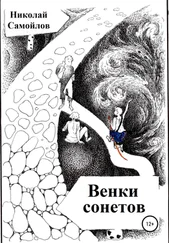венок в три трети
«И сверху лёд, и снизу, маюсь между…»
В. Высоцкий.
Хруст снега под отцовским каблуком,
Январский вечер холоден и ясен,
Мы из кино домой пешком идём,
Хороший фильм. Отец со мной согласен.
Витрины ярко светятся во тьме,
Морозный воздух щёки обжигает,
Снежинки пляшут в вечной кутерьме,
И изредка машины пробегают.
Мы скоро будем к дому подходить,
Ещё квартал, и мы почти у цели,
Но мне совсем не хочется спешить,
Хоть холодно, и уши побелели.
Но клонит в сон, уже ведь очень поздно.
Большой Каретный спит под небом звёздным.
Большой Каретный спит под небом звёздным,
Из форточек клубится белый пар,
И дворник Фёдор, враг мальчишек грозный,
В сторожке раздувает самовар.
Звук патефона слышится негромко,
Шульженко что-то жалобно поёт,
И лай собаки, радостный и звонкий,
Должно быть, спать кому-то не даёт.
Утихший дом, неярко освещает
Холодным светом бледный блин луны,
И вьюга у ворот фонарь качает.
Большой Каретный спит, и видит сны…
Он словно кот, свернувшийся клубком…
Мне этот двор как мой портфель знаком.
Мне этот двор, как мой портфель знаком,
Давно, уже наверно четверть века,
Я пробирался на балкон тайком,
Чтоб покурить отцовского «Казбека»,
Душистый дым мне ноздри щекотал,
И календарь листая прошлогодний,
Я только об одном тогда мечтал,
Чтоб Катя на каток пришла сегодня…
И сердце полетело кувырком,
И всё смешалось в мареве зелёном,
Сараи, липа, горка за катком,
И поцелуй, внезапный, и солёный.
Настало время задавать вопросы.
Четырнадцать. Я скоро стану взрослым.
Четырнадцать. Я скоро стану взрослым,
И я смогу увидеть целый мир,
Занятье выбрать никогда не поздно,
Я сам себе солдат и командир,
Передо мною все пути открыты.
Могу стать офицером, как отец,
Полярником, суровым и небритым,
Или актёром стану, наконец!
И буду, словно Жаров и Ильинский,
Играть в театре, и играть в кино,
Хоть комсомольцу не к лицу хвалиться,
Я знаменитым стану всё равно!
Кормлю я снегирей, моих гостей,
Хруст сухаря звучит как хруст костей…
Хруст сухаря звучит как хруст костей.
Да, ужин мой не слишком-то роскошен,
Но я сижу на кухне у друзей,
И лучший вечер просто невозможен!
Мы голодны, отважны и лихи,
И нету тем запретных в спорах наших,
Читаем запрещённые стихи,
И пьём плохой портвейн из чайных чашек.
И снова разговоры до утра,
И снова дым табачный, и гитара…
И снова всем на лекции пора,
Спешим из переулка до бульвара.
Но чудится на улицах столицы
Писк крысы в спёртом воздухе темницы.
Писк крысы в спёртом воздухе темницы,
Внезапно смех сменил, и голоса,
И треснули, расширившись, границы,
И пелена исчезла на глазах,
И хоть крепки замшелые законы,
Но всё же воздух стылый потеплел,
Поэты собирали стадионы!
И я тогда с гитарою запел.
Мой хриплый голос зазвучал повсюду,
Сперва негромко, а потом слышней…
Об этом я рассказывать не буду,
Тревожит душу тень прошедших дней.
Не властен я над памятью своей,
Я – сам себя предавший Галилей…
Я – сам себя предавший Галилей,
Я слишком много времени растратил
На ерунду, на пьянки, на блядей,
Боюсь, однажды мне его не хватит…
Но я так жил! Бездумно, день за днем!
Но я так пел! Хрипел, до боли в глотке!
Мне Чехов говорил: «Мы отдохнём…»
И я, как Астров, растворялся в водке…
Но как же много я тогда играл!
Вдыхая взгляды зрительного зала,
На сцене я и жил, и умирал,
И в сутках мне часов не доставало.
Глаза закрою – города и лица.
Мне – двадцать восемь. Время репетиций.
Мне двадцать восемь. Время репетиций.
Народ в Таганку рвётся круглый год.
Я вновь недавно вышел из больницы,
Любимов поругает, но возьмёт.
Вот, распахнулись царские палаты,
Шумит разноголосая семья,
Здесь Золотухин, Славина, Филатов,
И Танечка, красавица моя…
Я снова с вами, значит, всё в порядке,
Ну, прямо Чацкий – «С корабля на бал!»
Директор что-то записал в тетрадке,
И головой сурово покачал.
И спазм, что рот мой горечью заполнил,
«Мне сорок два…» – непрошено напомнил.
«Мне сорок два…» – непрошено напомнил
Оторванный листок календаря,
И душу вновь надеждою наполнил,
Что, всё-таки, а может всё не зря?
Есть множество причин для оптимизма,
Ведь «Человек – начало всех начал!»
Я всё-таки дожил до коммунизма,
Читать дальше