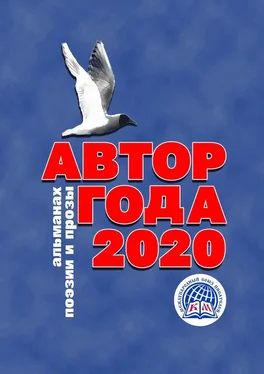Метр за метром, не чувствуя тяжести ноши-
это почти как глиссе, а за ним пируэт.
– Ты потерпи, потерпи, не стони, мой хороший.
Метров пятьсот нам ещё. Ну а там – лазарет.
Всё, дотащила. Сдала. Военврач обнадежил:
– Вовремя, Зина. Успела. Солдатик живой.
Ты отдохни, посмотри – обморожена кожа…
– Нет, не могу, там ещё не закончился бой.
И, подтянув поясок заскорузлой шинели —
кровь на ветру замерзает и колом встаёт, —
снова под злобные звуки летящей шрапнели
Зинка за раненым в поле обратно ползёт…
Ночью в землянке удастся уснуть еле-еле,
щёки горят и почти что не чувствует ног…
Зина танцует испанские танцы Равеля,
но не выходит во сне её главный прыжок…
Мирное время. Театр. Гардероб. С номерками
Зинка, хромая, таскает чужие пальто.
Вся её жизнь – между первым и третьим звонками.
Занавес. Музыка. Слёз не заметит никто…
В пятом ряду капитан, со звездою героя,
смотрит на сцену, а видит за дымкою лет
ту медсестричку, что тащит его с поля боя
и говорит, говорит, говорит… про балет.

Я не понял ещё, чем я вырасту в мире этом,
А молочная память зерна с каждым днём туманней.
Всё, что знаю пока я: что жизнь – это тяга к свету,
И уж в этом никто, никогда меня не обманет.
Раз из почвы я вышел – я вышел за светом свыше,
Раз прорвался из холода – лучше сгорю в пожаре.
Солнце, ради тебя и с тобой я не тот, кто дышит,
Как другие, земные, обычные дышат твари.
Но за каждым закатом ползут над землёю тени,
Паутинные коконы страхов тревожа старых,
И слепые голодные черви ночных сомнений
Заставляют побег извиваться в тугих кошмарах.
И глотаю я воздух, как звери – прошу, хватило б —
Потеряв направленье, готов я сорваться с корня:
Может, это не ночь наступила, а я не в силах
Стал добраться до света – и следует быть упорней?
Может быть, мне тебя заслонили… Но жизни хватит
До тебя дотянуться из чащи других растений:
Я готов оттеснять, обвивать их и убивать их,
Мне любое препятствие станет к тебе ступенью.
Я не знаю, как выгнется стебель, как извернётся
Каждый лист каждой жилкою в воздухе несогретом
До секунды, когда я поймаю твой первый отсвет,
Только – разве уродовать может стремленье к свету?
Я не знаю, чем буду, и некому мне пророчить,
Я не помню, чем должен был стать я, но, мне сдаётся,
То, во что превращаюсь я с каждой кошмарной ночью —
То, на что я готов ради права тянуться к солнцу.
«Нить устала тянуться – сплетенье оборвалось …»
Нить устала тянуться – сплетенье оборвалось —
И не важно, кто клялся, что будет она цела.
В этом небе седом было столько последних гроз,
Что с обеих сторон стяги вымыты добела.
Столько было последних мостов сожжено в сердцах,
Что по пеплу легко перейти, если надо, вброд.
Взгляды прежде боявшихся ныне пугают страх —
Боль откована крепко и в цель безотказно бьёт.
Горло голод словесный стянул, и бессильно смолк
Тот, кто был отзываться на каждый твой вздох готов:
Между мной и тобой было столько последних строк,
Что молчанье честнее и чище моих стихов.
Бродит ветер, скуля, словно старый простывший пёс,
Лижет лёд у дороги и жмётся к чужим дверям.
Чей-то ангел-хранитель, должно быть, уже замёрз,
Наблюдая с карниза за ходом житейских драм.
Здравствуй, трижды залатанный рыжий ночной уют:
С воркованием чайника, с горечью миндаля…
Говорят, будто ангелы вовсе не устают —
Что же, люди о чём не расскажут забавы для.
Ветер ловит осколки затверженных встарь молитв,
Безупречных, как морем разглаженное стекло…
Чем-то вечно рассерженный чайник давно кипит,
Бормоча, как со мною вселенной не повезло.
Ты не слушай. Мой чайник – несноснейший человек:
Всё ему бы чихать и на всех наводить печаль…
Заходи же – и стряхивай с крыльев налипший снег.
Сколько сахару любят пернатые сыпать в чай?
 Читать дальше
Читать дальше