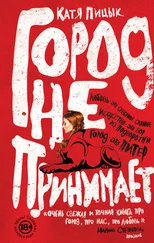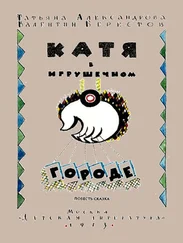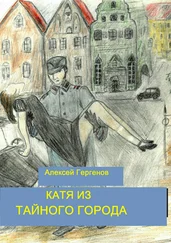Говорят, он человек был скучный,
не чурался с подлецами дружбой,
послужил официальной власти,
промелькнула жизнь, как в самотёке,
выжили пронзительные строки,
почитай их, если хочешь счастья.
Видно так устроено все в мире,
жизнь, и смерть, и дважды два четыре,
был поэт в обычной жизни прост,
хорошо он знал систему ада,
по нему прошелся, как по саду,
контрабандой музыку пронес.
«За этими стихами мрачными…»
За этими стихами мрачными
стоит отдельный человек,
измученный судьбы подачками,
а не какой-то имярек.
За этими сухими строчками
виднеется – прильни к глазку —
проспект с домами шлакоблочными.
Все улеглось в одну строку.
По-молодости все мы – бражники, —
хлебни безумия вина,
а зрелость ищет рубль в бумажнике
и по двору бредет одна.
Там в детских деревянных лодочках
плыть бы по листьям взапуски,
а человек сидит на корточках,
ища упавшие очки.
И вспышкой памяти мгновенною
колодец неба освещен,
куда со всей этой вселенною
все глубже улетает он.
В комнате той, где обоев шуршащий пергамент,
после зимы затяжной он пластинку поставит,
и наведутся на резкость знакомые вещи,
будто бы зрение стало мгновенней и резче.
В эркерных окнах ленивое небо до края,
длинной цепочкой летят самолетные стаи,
в море ныряют солдатики где-то на Кипре,
на Элизейских полях души тех, кто погибли.
Сызнова миру весна раздает свои роли,
пчёлы вернулись на бледные желтофиоли.
Снова он слышит шаги и гудение мошек,
шаркает скнова игла среди чёрных дорожек.
Там тишина абсолютна, где после налета
снова не лезет сирень ни в какие ворота,
снова петляет река на безбрежье, бесснежье,
и в облаках самолеты летят безмятежно.
И в безмятежности падает свет на ограду,
птицы свистят – ну так что еще, Господи, надо?
Так замечательно тянутся эти квартеты,
чьи-то шаги за окном, светлячок сигареты.
Будто бы облагороженный новым убранством,
мир снова будет таким безнадежно прекрасным,
в церковь войдет пианист, крышку снимет он с клавиш:
просто война раз – и вышла вдруг вся, понимаешь.
«Робинзон найдет другого Пятницу…»
Робинзон найдет другого Пятницу
из большого племени Зулу.
Я уеду, а друзья останутся
в некрасивом доме на углу.
Слезы вкупе с леденцовой мятою
и Кровавой Мэри на борту,
помашу им крыльями помятыми, —
всех благодарю за доброту.
Долетит до Северной Америки
с голубой полоской самолет
в час, когда друзья придут к Москве-реке,
где как раз вода ломает лед.
Купола горят, покрыты золотом,
Бог часы сверяет с талым льдом.
До чего же сладостны уколы там
памяти в предсердии пустом.
«Кузнечик пишущей машинки…»
Кузнечик пишущей машинки,
давай, товарищ, стрекочи,
о нашей жизни без запинки
рассказывай в густой ночи.
Когда из сильного металла
стальные молоточки бьют,
то заполняются провалы
на множество пустых минут.
Перескажи по ходу дела,
какая музыка была,
подбрасывала и летела,
какая там метла мела.
Троллейбус банкою консервной
большим проспектом дребезжал,
и в общепите завтрак скверный
социализм изображал.
Пой по добру и по здорову
прилет грачей сырой весной.
И первого раскаты грома
перед вертушкой в проходной.
В обратном крутятся порядке
ночные станции в уме.
Вольноотпущенной по справке
слоняться вечно по земле.
«Возвращаясь из Дома печати…»
Возвращаясь из Дома печати,
я свои забывала печали,
проходила сквозь арку Победы,
оставляла ненужные беды.
Был там парк возле старой усадьбы,
в нем густели столетние кроны,
приезжали веселые свадьбы,
перед церковью били поклоны.
Поднимали стакан ветераны,
в пиджаках пожилые мужчины
и на скрипке играли цыгане
посредине застоя, режима.
Именины большие для сердца
этот парк на краю небосвода,
скрипка, пой, улыбайся, невеста,
померещься, пустая свобода.
«У них есть деньги и права…»
Читать дальше