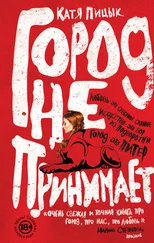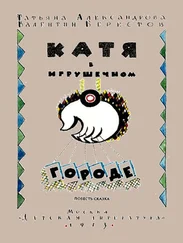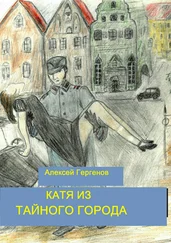У него работа и зарплата,
отпуск в виде южного курорта,
в белом телевизоре – эстрада,
в черном телевизоре – погода.
Он не рвет, не мечет свиньям бисер,
женщина сошьет ему одежду
с помощью машинки типа «Зингер»,
пиджака с халатом вперемежку.
Жертву домостроя и горячек,
он ее сажает на колени,
он ее не бросит, пусть не плачет
о российских женщин положенье.
«Я из таких-сяких окраин…»
Я из таких-сяких окраин,
где каждый сам в себя запаян
от молодых своих волос,
от духа луковых хинкали,
от навороченной морали —
всей этой жизни под откос.
Там человек выходит утром
с таким спросонья взглядом мутным,
как будто вышел в неглиже.
Он блудным сыном век скитался,
он чем-то у чужих питался,
ловил мотор на вираже.
Куда идет он в снежных мошках
по холодку на тонких ножках,
когда зима, как молоко.
Куда идет с утра мужчина?
Не спрашивай его причины,
так просто пожалей его.
«Припомню длинный день в разгаре лета…»
Припомню длинный день в разгаре лета,
в центральный гастроном прошли печатно
два юные, бессмертные поэта,
а после долго топали обратно.
Вдоль кладбища прошли, военкомата,
прошли районом Розовой долины,
они несли бутылки, как гранаты —
устроим нашей юности смотрины.
Там жили бедно, весело и славно,
бюст Ленина торчал в саду, как кукиш,
и, наливая на скамье в стаканы,
ему мы говорили: «Третьим будешь?»
«Подобрать бы мне несколько слов…»
Подобрать бы мне несколько слов
к музыкальной строке воробьев,
чтобы вышли веселые строки.
Нагудеть бы под нос на ходу,
пусть на радость они – не беду —
напеваются мной по дороге.
Я пойду и спою те слова,
я сирени нарву возле рва,
я приду к тебе в красном берете,
от улыбки моей вспыхнешь, друг,
на, возьми эту ветку из рук,
посмотри, что за прелесть соцветья!
Посмотри, я сложила строку
про веселую жизнь на веку,
где я слушала хор этот птичий,
приходила в весеннем пальто,
говорила извечно не то —
уж таков у поэтов обычай.
«Мы встречались, целовались…»
Мы встречались, целовались
и с работы шли домой,
и ни разу не признались
той холодною зимой.
Отвлечение стихами
и циклонами зимы,
и решили стать друзьями,
и друзьями стали мы.
И когда друзьями стали,
так и ходим в поздний час,
словно что-то потеряли,
затоптали что-то в грязь.
Летом я влезла на крышу бани
и попросила, чтоб все воскресли.
Видела сверху, как шли цыгане,
гнули гармошку и пели песни.
Слазь, говорили, батян отлупит.
Смолкли и мимо прошли по свету.
Мама другую собаку купит,
по водостоку на землю съеду.
«Помнишь: каменный дом на горе…»
Помнишь: каменный дом на горе,
«проходи» – у жасмина пароль,
просыхает белье во дворе
на веревках, протянутых вдоль.
Просыхает сосед после дней
беспробудного пьянства давно,
как трава после долгих дождей.
Вот такое мне крутят кино.
Хулигана везет воронок,
отплывает железный трамвай,
шепчет грязный ручей-ручеек:
никогда это не забывай.
Где малиновка спела, что вишня поспела,
муравьиною кучей кипела работа,
только очень одно самовольное тело
не хотело работать до черного пота.
Телу нравилась теплая с пылью землица,
ему нравилось пялиться в пыльное лето
и от общего счастья в тени уклониться
с сигаретой и толстою книжкою Фета.
Оно делало ручкой трудящимся людям
и ложилось под деревом с книжкой в охапку,
и лежало в траве, и гудело, как лютик,
подложивши под голову серую шапку.
Там такая свобода помстилась в отрезке,
прозвенела над телом свобода такая,
что стояла работа уже не по-детски,
первозванною вишнею губы кровавя.
«В осеннем сквере музыканты…»
В осеннем сквере музыканты
пьют водку после похорон,
молчат полдневные куранты,
в траве лежит аккордеон.
Вот так бы умереть, чтоб кто-то
забацал музыку родне,
а после из кармана штопор
достал и выпил в тишине.
Глядишь, и небо просветлело
над колокольней городской,
и можно снова по одной
из чашечки бумажной, белой.
Читать дальше