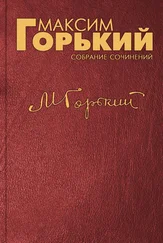от силы солнечной зависит,
как все растительное царство:
чем ярче воздух раскаленный,
тем стебель слаще, и кислее
яд муравьиного укуса;
тем тоньше аромат цветочный
прохладным вечером, богаче
узор на крыльях драгоценных
летучих гусениц… Однако,
как хорошо, что сотворен он
в миниатюре: на ладони
жук умещается рогатый,
кузнечик, мыслящий ногами,
и даже бабочка, подобно
открытой книге. Невозможно
принять гигантских насекомых:
тогда бы против нашей воли
они селились с человеком
и отвращение внушали.
Мы ненавидим тех, кто с нами
живет, кто кров и хлеб наш делит:
мух, что на сахар белоснежный
садятся черными ногами,
и хитроумных тараканов,
от наказания бегущих, —
они нам равно неприятны.
Два мира, столь различных между
собой, как наш – и насекомых,
не существуют вместе: сколько б
мы ни приписывали разум
стручку гороховому или
нежно-зеленой балеринке —
для нас личинки и стрекозы
едва ль ожившие растенья.
Вот если мысленно мы с ними
вдруг поменялись бы местами,
когда бы вместо великанов
вдруг оказались муравьями —
скорей всего…
В конце стола, у бездны на краю,
душа моя, я сладкое люблю:
плоть рыхлую у испеченной сдобы,
как тело коронованной особы.
Ведь не секрет – мучное мне вредит…
Но лишь цукат его опередит.
Какая легкость в булочке, заметь!
Она уже не в силах располнеть
и больше стать от воздуха и крема,
а все растет… Какая это тема!
Но миг прошел – бедняжку не вернуть.
И насладившись, хочется зевнуть.
Так мир устроен, и не надо слов.
Опять объелся дедушка Крылов.
Простим ему необходимый отдых,
стул отодвинем – больше он не съест.
А коль в партере нам не хватит мест,
не будем строги – постоим в проходах.
Я бражником порхаю
сегодня целый день
и нюхаю, вдыхаю
персидскую сирень!
Она крупна, лилова,
рассыпчата на взгляд,
и я даю вам слово —
вкусней, чем рафинад!
Есть тайная наука
менять цвета, места,
быть легким, как шкатулка,
в которой пустота.
Цеди ее по капле
с друзьями во дворе,
стань дымкою на Капри
и мухой в янтаре.
Клади на эту прелесть,
пока не слишком пьян,
в лучах весенних греясь,
ты «рыбу» и «баян».
И в назиданье внукам
сыграй в немом кино,
где падают со стуком
все кости домино.

Ты запомнишь травинку заката
между шпал почерневших, где зной
пахнет углем, как щебнем лопата,
и не движется воздух земной.
Впереди огонек светофора
задрожит на свободном пути.
И до станции будет не скоро —
все равно до утра не дойти.
Солнце сядет – и с насыпи пыльной,
где вьюнок под ногами цветет,
ты увидишь, как месяц старинный
над притихшею степью встает,
как трава между рельсов, услышишь,
неподвижно звенит от цикад.
И поймешь, ничего не попишешь,
где кончается этот закат.
Это будет дорожка на склоне
или, может, вершина холма,
но ее не касаются кони
в темноте – они сходят с ума.
Это будет окрашенный светом
безымянный участок степной,
где становится каждый поэтом.
Но обходят его стороной.
И тогда это самое место,
на котором кончалась земля,
вдруг уйдет, как вершина оркестра
или тонущего корабля.
Ничего не останется, кроме
того краешка вечности, где
алый отблеск лежал на соломе
вместе с ночью. И верил звезде.
«Насыпь железной дороги…»
Насыпь железной дороги
тронута акварелью —
на километре утра
облачко иван-чая
Живи легко, испытывая радость
созвучий тех, что смерти не слышны, —
из стебелька высасывая сладость
и музыку творя из тишины.
Не прекословь. И, сам того не чая,
в обыденности к Богу прикоснись —
великое пройди, не замечая,
и малости ничтожной поклонись.

Выпал снег. Будто снят с пялец
кружевной покров толщиной в палец.
Все покрылось снегом: свекла, брюква.
Хорошо видна на белом каждая буква.
Ртуть упала в градуснике. Cтало слышно,
Читать дальше





![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)