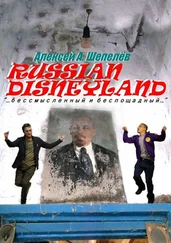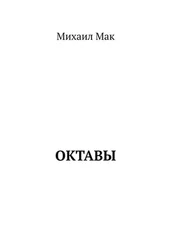Из моих кустов утащили рояль в кустах,
а то я показал бы, как должен звучать аккорд.
Находят эльфиков весной,
в цветной капусте.
И эльфик не бывает злой,
а только – грустный.
Умеют эльфики летать,
стрелять глазами,
а ночью – падать под кровать,
на радость маме.
Умеют быстро лопотать
из поднебесья,
детей умеют напугать
бандитcкой песней.
Не уважают пауков,
боятся свиста,
не любят злых, не любят плов,
не ищут смысла.
Не любят хитрых и жлобов,
не любят лысых,
не любят спать, не видят снов,
скучают писать.
Умеют плюнуть точно в глаз,
сопеть отважно,
любить умеют только раз,
кого – неважно.
Хотят чего – так без затей
тебя попросят.
И любят называть детей
Евламп и Фрося.
Умеют засадить пинка
седой бабульке,
проткнуть пакетик молока,
свалить кастрюльку.
Умеют ночью разбудить
и скорчить рожу!
Умеют фыркать и дружить
умеют тоже.
Они влетают в окна к нам
перед рассветом —
к почти друзьям, почти мужьям,
почти поэтам.
Ещё чуть-чуть уже ненужных слов
Ещё чуть-чуть уже ненужных слов,
последняя улыбка на бегу.
Увидимся в пересеченье снов,
во сне я ещё многое могу.
А хочешь – повидаемся в стихе,
не про бельчонка, так про порося!
Повесимся на старенькой ольхе
и поболтаем, рядышком вися.
Потом пойдём, сшибая лопухи,
пиная толстожопых малышей,
научишь ты меня писать стихи,
а я тебя тогда – ловить мышей.
Я увиваюсь ласковым плющом,
я ящеркой взмываю по стене,
я что-нибудь придумаю ещё,
чтоб ты не забывала обо мне.
Я научу проигрывать в «очко»
прикольных древнегреческих богов,
я в караул построю хомячков
на площадях столичных городов.
Нам будут петь гиены в унисон,
нам будет носорог плясать кадриль,
нам марш сыграет пьяный Мендельсон,
из клавесина вышибая пыль!
А я достану ключик золотой,
открою подвернувшийся Сезам,
и девушка, рождённая слепой,
нам нагадает счастье по глазам.
Да только я слепую обману,
слепую-то надуть – сам бог велел!
И мы уйдём в далёкую страну,
где нас найдут десятки важных дел, —
мы можем разводить морских слонов,
а можем отпускать попам грехи…
Увидимся – в пересеченье снов,
в тени уже посаженной ольхи.
Кладбищенский дворник подмёл и сидит в Инстаграме,
кладбищенский поп бородой закрывает мне вид,
кладбищенский сторож от скуки играет чудями,
кладбищенский ворон заметил меня, но молчит.
Я помню, как я не узнал отражение в луже,
я помню московское лето – от слова «дожди»,
уверен, что секс безопасный и даром не нужен,
и знаю сидельца Сидякина – вот и сиди.
Я видел, как лисы следы на снегу заметают,
я знаю, как сбить со следов поисковый отряд,
я видел, как в армию девки ребят провожают,
вот этот и тот – раньше срока вернутся назад.
Подвыпивший дворник выносит мозги на Фейсбуке,
попу – что Псалтырь, что «Гоп-стоп», да и мне всё равно,
а сторож играет, совсем заигрался от скуки.
А ворон взглянул мне в глаза и сказал: Nevermore .
Мишка жил в высотном доме,
но на первом этаже,
всех любил, пожалуй, кроме
тараканов в гараже.
В школе Мишку беспредельно
научили, чтобы он
«Не» всегда писал отдельно
от глаголов и имён:
Не погода, Не фертити,
Не навижу, Не кролог.
Только, что ни говорите,
он всегда любил дотрог.
Мальчик писает с балкона
на соседский «Кадиллак»,
Мишка прыгает на склоне,
только не холма, а так.
(Если у соседа был бы,
скажем, быстрый «Шевролет» —
Мишка всё равно бы прыгал,
но тогда – на склоне лет.)
В сапогах по самы гланды,
как у Первого Петра,
пляшут жители Уганды
у туземного костра,
а на нём – косматый мамонт
загрустил в своём соку.
И внушает старый Бальмонт
кенгурёнку-дураку,
что одним прыжком дебильным
перепрыгнуть Енисей
сможет только самый сильный —
Королевич Елисей!
Кенгуру убил поэта,
тем и выиграв тот спор.
Но его задело это —
вон, сигает до сих пор.
Жалкий, мокрый, одинокий,
Читать дальше