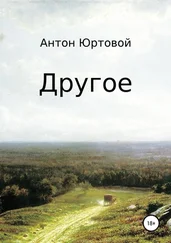А хто ж мене, молоденьку,
тай до дому проведе?
Моя мама напевала этот фрагмент сама себе, когда ей было особенно тяжело и ей, из-за того, требовалось обязательно распеться также и в других лирических мелодиях. Что тут могло быть ещё особеннее, когда трое детей у неё умерли от голода, когда её муж, мой отец, погиб на войне, и ей оставалось только с утра до ночи бесплатно работать на колхозной мужской работе, не вылезая из нищеты?
Особенной была, конечно, сама песня, исторгавшаяся непереломленной оскорбелой душой. Сколько там теплоты, безыскусности, ласки, ожидания, жизни, воспоминания, будничной красоты! Может ли быть что-нибудь лучше, трогательнее, дороже в бескрайнем и уже будто опустыренном песенном море?
Средний возраст – непростое дело для человека.
Земную жизнь пройдя до половины,
я очутился в сумрачном лесу,
утратив правый путь… —
жаловался Алигьери. Чтобы не потерять себя в изгнании, он, как известно, оттуда как бы сбежал и не куда-нибудь, а на тот свет, рассказав о нём немало интересного, чем и прославился. Для Пушкина разлом его жизненного пути надвое был настолько болезненным, что в этом месте всё для него и закончилось.
Я перебирал в памяти эти и подобные им любопытные примеры из прошлого и находил, что они почти впрямую касаются и меня. Мой серединный рубеж тоже был совсем рядом. Судьбой не дано было выделиться мне в каком-нибудь геройстве или в эффектном падении. Страна, никуда не двигаясь, меня постоянно куда-то звала и понуждала двигаться, мешая собираться в своих, личных решениях. И, поскольку ценного результата здесь не могло быть, заменой служила оскорбляющая сплошная мучительная усталость. Я устал настолько, что, казалось, чуть ли не с каждой минутой куда-то падаю, проваливаюсь, и нет желания этому воспротивиться.
Вдоль насыпи железной дороги тянулись возвышения и распадки, поросшие густым лесом и уже тронутые ярким багрянцем осени. Поезд часто сбавлял ход или, наоборот, устремлялся в разбег, преодолевая один за другим вершинные участки на перевалах. В окно врывалась тугая масса лёгкого, чистого, промытого недавним дождём и хорошо угретого солнцем воздуха. Ехавшие пассажиры восхищённо осматривали роскошные, искрящиеся ландшафты, дружно и весело переговаривались. Их лица выражали восторг и удовольствие. Где-то в дальнем купе слышна была песня, хотя и с заметной текстовой фальшью, но почитаемая многими. А меня давившая тяжесть не отпускала и будто пригибала всё ниже. В таком состоянии добрался я наконец до посёлка, в который ехал с надеждой как-то, может быть, освободиться от накопившейся хандры.
План был простой: пожить у кого-нибудь на деревенский манер, отрешиться ото всего, что имело место в городской суете и в услужении государству рабов.
Посёлок был растянут вдоль станционных путей, и там, где переулки уходили вбок на каких-нибудь один-полтора километра от железной дороги, уже начинался так называемый хозяйственный лес. Его местами вырубали; он вырастал снова. Тут же были скотные выгоны и покосы. Этими зонами посёлок отделялся от леса уже коренного, куда вели узкие ухабистые, никогда полностью не просыхавшие и местами почти сплошь затянутые моложавым подлеском проезды, служившие для доставки хлыстов. Города, до которых в обоих направлениях тянулась железнодорожная магистраль, отстояли отсюда одинаково далеко. Станция была маленькая, её даже часто называли полустанком, соседних с нею, таких же, набиралось немного. Народ сюда жить не ехал, а молодёжь предпочитала здесь не задерживаться. Но в то время в таких местах уже начиналась возня с приобретением построек и участков под дачи.
Один мой знакомый, узнав, что я собираюсь в эту полудикую глухомань, уговорил меня разузнать, не мог ли бы он завести там свой островок покоя. Так что цель поездки состояла ещё и в этом.
Было время полдника. Проходя одним из переулков, я увидел старика, копавшего картошку на своём огороде. Мы быстро договорились. В качестве жилья он предложил мне в избе крохотную каморку без окон и без электричества, с выходом в сени. В каморке стоял топчан. С избой соседствовал сарай, где не было ни скота, ни мелкой живности. Чердак сарая прикрывался тесовой крышей и только одним фронтоном. Ни для чего, а как бы в память о былых обитателях подворья дед набросал наверх сена, припасённого в текущем сезоне, и теперь чердак, широко открытый настежь одной из своих сторон, годился на роль спальни даже лучше каморки.
Читать дальше





![Антон Долин - Миражи советского. Очерки современного кино [litres]](/books/437205/anton-dolin-mirazhi-sovetskogo-ocherki-sovremennogo-thumb.webp)