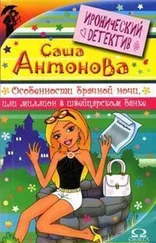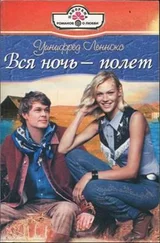даже дышится с болью в горле
и удвоен привычный стук;
точно махом – на косогоре —
остановлен житейский круг.
Я почти что вишу над бездной:
руки замерли, воздух – лед.
Мир мой светлый, большой, чудесный
закрутился наоборот.
«Это временно – остановка!» —
говорят мне то тут, то там.
Я киваю, но мне неловко.
Я не верю таким словам.
А я верю, что все – приметы,
что недаром клокочет жизнь:
«Не туда ты спешишь по свету!
Дальше – бездна!.. Остановись!»
Одного я хочу (…и верю):
чтобы жизни моей звезда
мне мои подсказала двери,
мне шепнула – идти куда.
Еще вчера в Москву приехал поезд,
а в нем мой самый близкий человек —
мой папа – я с ним заново знакомлюсь, —
а вместе с ним приехал прежний век.
И век и папа достают котомки,
соленую капустку, пирожки…
В наш странный мир, нечаянный и ломкий,
они вошли, как ломкости враги.
Развесили повсюду полотенца,
наладили свой быт и свой уклад.
И век и папа, точно два младенца,
на нас глазами светлыми глядят.
В гремящее с экрана верят слово,
в какую-то там силу доброты
и в человека честного, простого,
пускай вокруг все снобы и скоты.
И век и папа искренне мечтают
вернуться в детство, весь изъездить мир,
и, верите, они не замечают,
что время их изношено до дыр.
Что никуда уже и не поедут,
не убегут от грешной суеты,
и, слава Богу, мир им не поведал,
что детские не сбудутся мечты.
Наивными глядят они глазами:
и век и папа – страшно мне за них!
И горько мне, что так светло, как сами,
не научили жить детей своих!
«Нас с тобой не спасет одиночество…»
Нас с тобой не спасет одиночество
и чужая любовь не спасет.
Ты живешь теперь, как тебе хочется,
а точнее, как жизнь понесет.
Ничего не кляня и не празднуя,
пьешь с усмешкой задумчивый день.
А дороги у нас теперь разные.
И от прошлой осталась лишь тень.
И хранит нас с тобой одиночество
на своих утомленных руках.
Но, пройдя все земные пророчества,
мы с тобою живем в облаках.
И неважно: что здесь с нами станется
и чему здесь не велено быть.
Сердце с сердцем вовек не расстанется,
если память не в силах забыть.
Когда душа, уставшая любить,
с земного пьедестала соступает,
она парит, она еще не знает,
что значит верить, помнить и забыть
о том, как в полночь синие огни —
его глаза в моих глазах сияли
и клетки тела мерно засыпали,
едва еще успевшие остыть.
Он был мне Принц, и Нищий, и Король,
и тихий Мастер в комнате угрюмой,
и ни о чем он, в сущности, не думал,
обняв меня упрямою рукой.
А на руке – прожилки (тонок свет),
как реки и озера, растекались.
И мы вдвоем над комнатой качались,
как будто бы за нами мира нет.
А после, погружаясь в тишину,
неслись по звездам до погостов белых,
и губы, вдруг раскрытые несмело,
в губах других тревожили весну.
Пробило полночь!.. И открылся бал!
И Мастер на балу меня ласкал
в фонтанах белых, в ваннах из вина…
И нам опять светила тишина.
И он спросил: «А любишь ли?» —
«Люблю.
Как жизнь свою и как печаль свою».
…И было так до первых петухов,
до первого прощения грехов,
до скукой растревоженного дня,
в котором больше не было меня.
В котором больше не было меня.
«Еще вчера, казалось, будет чудо…»
Еще вчера, казалось, будет чудо.
Московский вечер темными кругами
спускался с неба… Мытая посуда
на двух столах сияла жемчугами.
И ты смотрел задумчиво и просто,
и ничего не пелось, не писалось.
Все потому, что в доме были звезды,
которых больше в мире не осталось.
Одна из любимых тем автора этой книги – Москва Первопрестольная, белокаменная, разноязыкая и разноцветная, с большим количеством широких, галдящих проспектов и маленьких, вьющихся переулков, она – ее город мечты с раннего детства.
Впервые Саша побывала в Москве с родителями в три года. Потом в пять, потом в семь и в восемь лет. Каждый раз посещала возлюбленные ею ВДНХ, Александровский сад и Красную площадь и нелюбимый зоопарк. В нем всегда было очень жарко и крайне много народу. В постоянных маршрутах были и бесконечные магазины. Нравился Саше только один – ГУМ, с его небесным куполом, многочисленными лестницами, лотками с мороженым, фонтаном.
Читать дальше