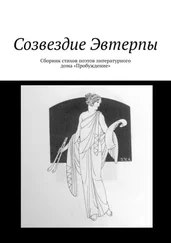В уме – с намётками генплана.
И дщерь достойнейшего рода,
И, право, гордость Оренбуржья,
В крови – Самарская порода,
И с житницей, Кубанью, дружит.
Да что перечислять… Россия
Нашла в бабуле воплощенье,
Мелодика Аве Мария,
Но в православном исполненьи.
Пройдя сквозь голод и лишенья
Поры военной и подъёма
Послевоенного – раченьем
Полна о ближних и о доме.
Характер с детства закалённый,
Смышлёней Фурцевой, но мягче,
Лицом – Сикстинская Мадонна,
Детей и внуков с чувством нянчит.
Во всём читается забота
И, вместе с этим, крепость духа,
Новатор большая, чем Джотто,
Обидит разве только муху.
И что ни утро, то с зарядки
Бабуля начинает бодро,
С мотыгой трудится на грядках,
Могла бы быть героем спорта.
Политика не ускользает
От восприятия бабули,
Хоть США, а хоть Китая,
Что подписали, что свернули.
Горжусь прабабушкой своею,
Великолепной Ираидой –
Чуть более, чем всё, умеет,
И оптимизм – её планида!
Чётки
Брошь забыла, платье наизнанку,
Собиралась, что ли, второпях,
Словно отплясавшая вакханка –
Лёгкий ужас в смоляных бровях.
И глаза, озёрца, покраснели,
А сама, как ларь с мукой, бледна…
Ну, забудь те горькие недели –
Не твоя, и вовсе не вина.
Вдаль глядишь, перебираешь перстни,
Будто чётки или же сердца,
Завывает ветер злые песни –
Может быть, погреешься в сенях?
Ты стоишь, меня не замечая,
Сняв перчатки с охладевших рук…
Всё, что можно, – о тебе не знаю,
Что нельзя – всё знаю, милый друг.
Умирание
Тихо доживала век свой баба Маня,
Тихо доживала в брошенной деревне,
Красила на Пасху голубые ставни,
Сил хватало, избы мыла ежедневно.
Умерла старуха на печи промёрзшей,
И деревня с нею дух свой испустила,
Огоньки по хатам не зажгутся больше
И кресты согнутся на седых могилах.
Велико ли горе? – Даже солнце гаснет,
Тишина глухая всюду воцарится,
Только лишь под Пасху, ранним утром ясным,
Будет чей-то шёпот в поле разноситься.
Стеклянные цветы
Смотрел на профиль свой сквозь мытое стекло
Летящего через тоннель вагона –
Кино немое быстро увлекло,
Как пирамиды – души фараонов,
И видел я в надраенном стекле
Не облик свой, растёкшийся, как клякса,
А всё, что происходит на Земле,
Под бородой у Господа и Маркса.
Не видел я лицо – одно пятно
Опять соединяемой Гондваны,
Всё сыпалось, как кости в домино,
Как толстый кот со старого дивана.
Но станция достигнута, и я
Вываливаюсь, движимый толпою,
В привычные границы бытия,
Где снова ничего у нас с тобою.
А станция и вовсе не моя,
Но я не тороплюсь, не чертыхаюсь –
Ползёт вагон, как мудрая змея,
Как в сложносочинённом запятая.
А вскоре слёзы, крики – узнаю,
Что мой вагон дотла сгорел в тоннеле:
Смотрел в стекло я, стоя на краю,
У смерти языкастой на панели,
Но Ангел мой и хроника стекла,
Напор толпы, а также мутность мозга…
Короче, Божья воля сберегла
От ранних встреч с кладбищенской берёзкой.
И, приходя к погибшим сорока,
Мне неизвестным, к памятнику скорби
Кладу цветы в стекле, и облака,
Рыдая, им отращивают корни.
Пожалуйста, не уходи
Начальник наорал несправедливо,
Друзья-подруги смылись кто куда,
Но счастлив, поднося тебе оливы
И пледом укрывая в холода.
Собака у стоянки покусала,
А голуби за памятник сочли,
Но счастлив наливать тебе в бокалы
Чаи из разных уголков Земли.
Опять в футболе наши пропустили,
Карманники лишили кошелька,
Но, подходя к тебе с букетом лилий,
Могу сказать, что счастье отыскал.
Соседи вновь затеяли скандалы,
Раскалывала голову мигрень,
Но вот с тобой гляжу я сериалы
И счастье наполняет этот день.
Ушибся я, сдвигая антресоли,
А кот мой тапок принял за лоток,
Но, для тебя готовя ванну с солью,
Счастливей Лепсверидзе раз во сто.
Пусть жизнь наносит разные удары,
Мы справимся со всем, как ни крути,
Но только ты с твоим волшебным даром,
Любимая навек, не уходи.
За виноградными гроздьями
Виноградные гроздья ажурные,
Молчаливо повисшие гроздья,
Над скамьёй деревянной, над урной,
Над неверящим лепетом «Бросьте»,
Над свиданьями в белой беседке,
Над Отелло и Дездемоной,
Королька приютившей веткой,
Над стаканом с водою лимонной,
Над типичной старинною драмой,
Читать дальше