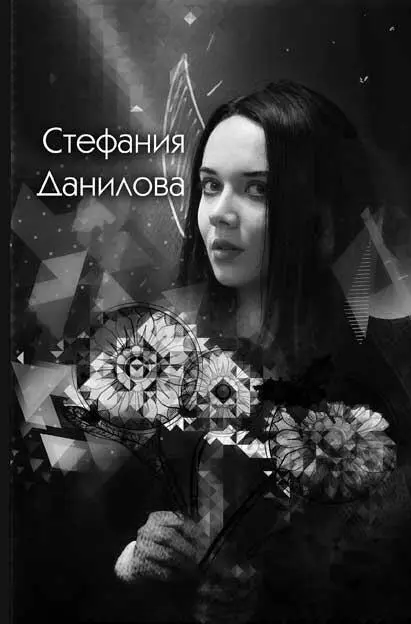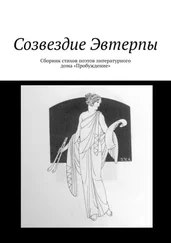вылови сон, лети чайкой ввысь,
полный карман тепла
набери и отчаливай, не отчаиваясь,
смотри, как минуты друг с другом прощаются.
А я посмотрю на тебя.
Тик. Так.
Пора.
День в ширину антракта.
Вечер приходит в восемь утра.
Утро кипит закатом,
над кофеваркой клубясь словами,
вырванными из книг.
Публика – кактус да кот. В финале
твой монолог на пустом диване
шёпотом въедет в крик.
Воспоминания дышат
яблоками обскур.
Смотри, вот и время вышло –
вышло на перекур.
Полночь-дура, – бусины на оси,
прокрустов дурной приют, –
жалобно взвизгивает, но часы
её всё равно добьют.
Тик – указующая стрела –
как приговор: остынь.
Так – занавешивай зеркала,
проводам обрубай хвосты…
Ты хоронил часы за пятак.
Ты их снимал со стен.
Тик. Так.
Тик. Так.
И ты ничего не успел.
* * *
Не говори, что знаешь, как выйти за круг дождя,
когда дождь постигает, кажется, самую суть вещей,
что пылятся внутри твоей черепной коробки.
Засов отодвинут (сорван), крышка откинута. Ждать,
когда что-то из этих (ненужных) станет чуть-чуть нужней
тем, для кого ты нежен, бессмысленно. Ведь, стоя в пробке,
люди не ищут путь – им надобен навигатор.
Людям не верен снег, под имбирно-пряничный латте
пляшущий, будто бы мягкий медведь на небе молча теряет вату,
и вокруг так бело и звонко, что у тебя вот – ёкает.
И у меня – ёкает.
А других – коробит.
(Потому что у них «гололёд», а не «зеркало города», «осадки» же, а не «хлопья».)
Не говори, что хочешь выйти за все пороги
многоимённой веры, ощерившейся крестами
с телеэкрана раненого пейзажа,
бросившегося с девятого этажа.
Люди не терпят себя – как их терпят боги?
Смотрим не глубже, чем под ноги, читаем себя с листа мы,
то ли и правда ждём, то ли волочим заживо
заоконенное, забракованное «ждать».
Не говори, что…
Знаешь, слова ничего не исправят.
Пусть это будет молчание, прячущее ответ
в левой руке. А в правую, беспрекословно правую,
вправлен билет до прошлого с пересадкой сердца в Москве.
И никому ни слова. Мы до завтра не уничтожимся,
значит, завтра поговорим.
Мир
нас разденет до самого до никтожества,
снежной нежностью обагрив.
Ври
мне
нагло,
ври безутешно,
ври, что время вернёт мне долг и
мои даниловские веснадцать лет.
И вставай уже на ноги.
Серьёзно, асфальт холодный,
простудишься. Посмотри, как хорош
(когда ничего не ждёшь),
бессовестно хорош
снег.
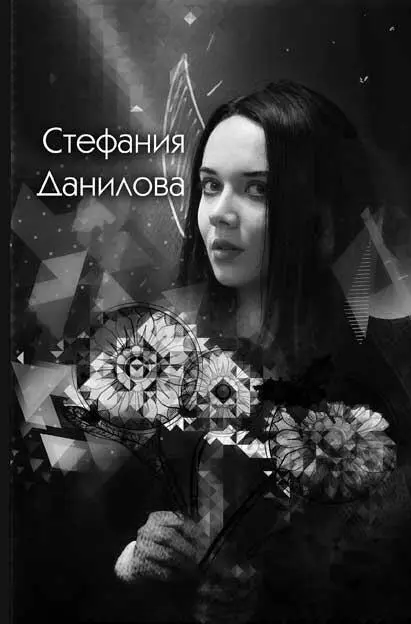
* * *
Палка, палка, огуречик, карандашик задрожит:
вот и вышел человечек в удивительную жизнь.
Ложка, вилка и слюнявчик, да игрушки на полу.
Человечек насвинячил и теперь стоит в углу.
Ашки, бэшки, рассчитайся на раз-два, ча-ща, жи-ши.
Плюйте в лица, блюйте в тазик, ты мне больше не пиши.
Во саду ли, в огороде, в час немыслимых потех
мы при всём честном народе выбирали, да не тех…
Кто направо, кто налево, карты, деньги, два ствола,
развенчали королеву, и не вспомнят, что была,
тили-тили, трали-вали, а в ушах трамвайный звон,
наливали, наливали, с глаз долой – из сердца вон,
плюс на минус будет минус, плюс на плюс – звезда во лбу,
вот скажи-ка мне на милость, ты зачем лежишь в гробу?
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, приезжай хоть на часок,
листьев мокрых, листьев палых нескончаемый вальсок,
спят усталые игрушки, в неотвеченных висят.
Не хочу к тебе в подружки, мне уже под пятьдесят.
Мама мамочка мне страшно, отчего часы спешат…
Кто-то там стоит на страже и не выйти не сбежать…
К стопке водки – огуречик. Палка, палка, крест равно.
Вот и вышел человечек в бесконечное окно.
* * *
Восьмилетняя девочка помнит, как пахнет инеем.
Как оживают люди, идя на ярмарку,
что в сочельник откроют на пешеходной линии.
Восьмилетняя девочка грезит ледовым яблоком.
Восьмилетняя девочка слушает разговорчики
полупьяной мамаши с каким-то пришедшим жиголо.
Восьмилетняя девочка пишет дурацким почерком
сочиненье на тему «Как я провёл каникулы».
В сочинении девочка ищет прописку в космосе,
самоубийство считая причиной вескою.
На собрании на родительском смотрят косо все
и отец порет девочку пряжкой красноармейскою.
Восьмилетняя девочка ходит со взрослым паспортом.
Читать дальше