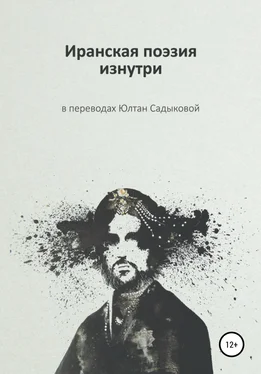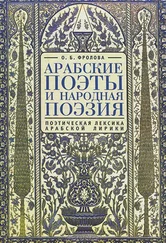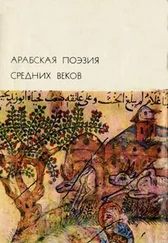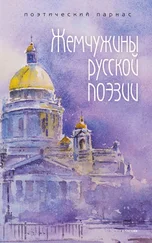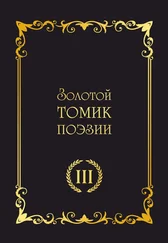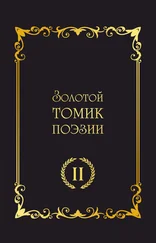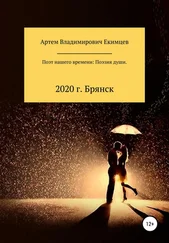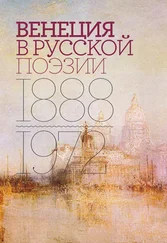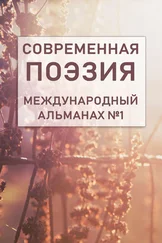Есть в Ше’ре ноу поэты, которые состоялись и без Нимы. Цветы-самосейки.
Бижан Джалали (1927–2000) не был знаком со стихами Юшиджа до своего отъезда на учёбу во Францию в возрасте девятнадцати лет. И поворотным этапом в жизни, как и Носрат Рахмани, называл прочтение «Слепой совы» Садега Хедаята – своего родного дяди. За пять с половиной лет учёбы во Франции от любви к Бодлеру, Валери, Элюару, он становится поэтом. На похоронах последнего Джалали даже присутствовал и часто вспоминал потом, как, повторяя за толпой скорбящих, выдернул из корзины холодную розу и бросил на гроб.
Первая книга Бижана «Дни» была напечатана в 1962 г. в Тегеране. В стихах его нет смысловой и словесной витиеватости, вычурности, они берут тебя, как ребёнок, за руку и ведут в бездны. Язык Бижана не подвергается никакой шлифовке, он говорит либо о себе, либо с собой, либо молится. Он схож с Сепехри в том, что хочет постичь тайны природы и видит совершенство божественного творения в каждой мелочи, он любит землю, её запах, мир для него будто сон, от которого он боится очнуться. Прекрасный, если бы не разъедающее душу одиночество, сон.
Поэт не привязан ко времени и ни одной отсылки на действительность, в которой жил, не даёт. Стихи Бижана можно назвать путевыми заметками (и путь этот – к Богу), они не порождение модернизма, их истоки следует искать в «Монаджатнаме» – «Книге уединённых молитв» Ансари (XI в.). Современна лишь форма стихов Джалали, его предельная простота. У него как будто одна струна, но из неё он умеет извлекать пронзительные звуки, обращаясь к вопросам, которые в нём живут изначально: Бог, судьба человека, добро и зло и возможно ли быть на земле счастливым.
Джалали так и жил: книги, любимые кошки, мама, о которой он заботился, пока не присоединилась к тем, кого нет. Написал как-то: «боже, я мир твой увидел. // и никогда // это знакомство // ни ты, ни я не забудем».
Продолжательницей заветов Нимы Юшиджа, очень правильно понявшей, что Нима хотел сделать с поэтическим языком, была Форуг Фаррохзад (1934–1967) – главная дива тегеранской артистической богемы тех лет и одна из самых трагических фигур в иранской поэзии.
Хрупкая черноглазая красавица с обворожительной улыбкой и детской невинностью в душе, она в пятнадцать лет вышла замуж за известного писателя Парвиза Шапура вдвое старше неё. То был несчастный брак, который вскоре распался, отняв у неё на всю жизнь возможность видеть сына – боль, с которой она так и не сможет сжиться. Сжигаемая внутренним пламенем, неуспокоенностью, она была всегда одинока: в родительском доме под суровым воспитанием отца-военного, в школе, где вместо того, чтобы поощрять пробуждающийся в ней литературный талант, над ним смеялись. Форуг всю дорогу не хватало тепла. Начала она с банально-сентиментальных стихов о любви, поразительно откровенных и больше напоминающих неконтролируемую лавину чувств, излившуюся на бумагу. Этими бурями она сразу привлекла к себе всеобщее внимание и заставила пунцоветь от смущения не одного литературного критика.
Увлекавшаяся с детства живописью, Фаррохзад принялась изучать историю искусств и отправилась в путешествие по Европе. Важным событием в её судьбе стало знакомство с кинорежиссёром Эбрахимом Голестаном, работа с которым дала ей бесценный опыт.
Она на глазах вырастает из женской лирики и оглядывается по сторонам, впитывая печали простых людей. Тяготы жизни, социальная несправедливость, гнёт времени находят всё большее отражение в её творчестве. Но не как у Ахмада Шамлу, который всё видит будто бы сверху, общо – Форуг живая, земная, голая.
Персидская поэзия прошлого была склонна всё «закутывать», Форуг же – обнажающая. И до неё никто на такую откровенность не осмеливался. Она превращает символического человека в человека из плоти и крови, без украшательств. Вслед за Носратом Рахмани, вводит в стихи исповедь. Она и её жизнь – в каждом её тексте. Порой в этих текстах мелькают картинки из прошлого, обогретого сказками бабушки, доброй, религиозной, простодушной, суеверной старушки, родительский дом, сад с прудом, погоны на плечах отца, обиды, раннее превращение в женщину, к которому она не была готова, о чём её не спросили. Даже когда Форуг говорит о страшном, грязном, осуждает, в ней – жар бьющегося сердца, любовь к человеку, который, возможно, оступился.
Меняется и язык Форуг: поначалу она долго находилась под влиянием поэта-романтика Надера Надерпура и подобно ему писала четверостишиями «чарпарэ»: с рифмованной второй и четвёртой строкой. Постепенно, в поисках самовыражения она обратилась к простому языку и более современной, более свободной форме (отчасти благодаря молодым поэтам иранской «Новой волны» с их обрывочно-газетным сознанием – речь о них пойдёт чуть позже).
Читать дальше