ну так и есть, что лето обычайно: недурственна листва и все путем
трамвайным по ребру, и снова стайно летит всевышний день, всегдашний стрем.
ничем, ничем, ничем не распорошишь, разворошишь гнездовье кораблей
в глазах, где движется не пристань – поршень: приладиться к тебе, врасти сильней,
не бередить, не быть и не спонтанить сугубо свой, интимнейший коллаж
за яростным окном: бумага-камень, кулак-ладонь, затупленный пейзаж.
будет тебе река, как сухой старик, вымытый после встряски прожженным виски,
и голенища браги, как моби дик, – мокрые, откровенные, пахнут кислым.
тщетна у лета пластинка, игла и гнет; гордо июлит, гляди, и не сносит пах ни
придыханья жары, ни зрачков сирот, будто зрачков крота или запах псарни.
только запястье тончает, летит вовсю. протоколируй, небо, документально:
се, подписавшийся ниже, сведен к нулю, время примерно к августу, подпись бранна.
***
такие желваки, стрижет лишай
весь оборот лица, с изнанки вяжет
как после просмакованного «ша»
хурме, избытку сна, молчку и враже.
залечь на дно как под тебя да недосуг,
кому какое дело в самой самке
следить за лбом морщинистым и пух
есть волос тополей, не выпал дамкой.
теперь залягу, будет гопака
пускать собачья снедь и нефть в корыте
лакается прогулкой до пока
крахмал воротничка по шею врытый.
давай, июль, закосим под людей,
под этих всех, кому легко и мутно
от сонных до бессонницы ночей
и кто опровергаем утром.
***
от края комнаты до горла, где болит
миндалина и красный жжется сокол —
сорняк для бешеного гонга – и палит
крылом от маковки до холода и сока,
от тверди дверной, где порог, стезя, нога,
закинутая, вброшенная в берег
от края этого до самого долга,
до тонкорукого с похмелья бега,
от этих молочаевских глазниц,
в которых зелени по самое разуйся
и не вдеваемая нагота ресниц
ни в мясо Божие, ни в кость, ни в буйство,
от гальки пропесоченной, в проем
отчаянья, затравки, прободенья,
отрезка, ямы, стана, в ветролом —
не отворачивайся от меня, забвенье.
***
здесь не то чтобы детство, а прочий помост
меж вторым подоконным и спелым
голым яблоком, что ли, разрезанным от
переносицы к топкому мелу.
и кого из нас больше в дому посему,
по которому ходишь, не скручен
ни в бараний рожок, ни во тьме посошок,
ни чему еще врешь, не замучен.
это сюр, Божий сюр, и фригидна тоска,
и зудит отчий спам, и мазутом,
долгим спелым мазком чертит абы рука
что-то вне, словно ртом неразутым.
***
на самом-то деле от круга уходит листва,
от круга лица твоего, треугольника мора
в глазах полудремных, полуденных, полунева
течет и взывает к морям из ладоней и сора.
не любый, а самый ничей, ничему на постой
оставленный скорым, чтоб по ком-то забыться
и сбыться от корки до края, до края и стой,
и стой, погоди, погоди, не пали эти лица —
вон то, пред горою без носа и шрам у брови —
теперь не мое, а за ранцем сентябрь; плетутся
подкошены ноги и колко от ветра на вид
некрепким лопаткам моим, високосным и грустным.
***
живи со мной в лесу, живи в весу
почерковедческой иконописи мятой,
и мята глаз и губ кудахчет псу
задверному: ату, мой перекатый.
подошв вериги-шуры, пустоглядь
и муры лета колыхают и курлычут:
опять в роду последний сын, опять
тот августовский жар и вычур.
и можно божески про все ему в зрачок —
немое, сокровенное, по крови
одной и бирюзовой, на бочок
выкладывать за край и кровлю.
но тут уже не август – сталактит,
дрожит молчальником над талым черноземом,
и грудь геолога от пустоты мычит
в косяк двери, косяк птенцов над зевом.
***
Ничего, кроме точного «будет, давай в сентябре»,
позасолнечным месяцем, молокоедом строптивым
вытираешь испачканный палец, не свой и во сне,
и слюна горьковата и просит железа и дыма.
И такое опять познакомое то ли в лицо,
то ли в плечность плотины в стопе, проходящей бесстыло,
ну споткнись же о взгляд августовского «мало ли что
будет с этой душою твоей, зачехленной и гиблой».
Минометное горе мое, Божья ворвань, слепой казантип —
гулким топким штыком где-то здесь, где стучит и смеется
этот мой тонкокожий двубортный молчун-арлекин
то по левой, то правой щеке у малютки-аорты
проходящий то вкось, то прямей, в направлении от
Читать дальше
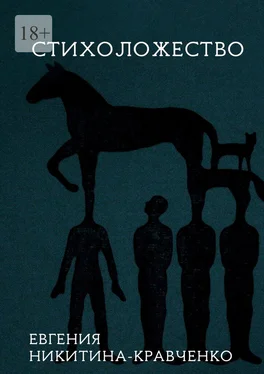





![Евгений Никитин - В тени экватора [litres]](/books/391341/evgenij-nikitin-v-teni-ekvatora-litres-thumb.webp)





