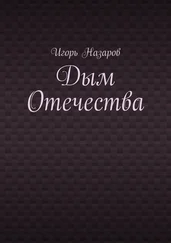Это похоже на стихи.
Потому что стихи – это взбесившийся поезд.
«Кто-то принесет тонкий бумажный пакет всякой всячины,
а кто-то – исписанный неровным почерком,
смятый тетрадный листок.
Все, построенное ДО,
не имело этих спасительных разрывов.
Туда невозможно зайти, там можно только оказаться.
Оттуда невозможно выйти – только пропасть.
Это было похоже на склеп:
там невозможно жить —
можно только умереть».
Я очень люблю одну историю про Микеланджело. 13 сентября 1501 года великий скульптор приступил к работе над своим Давидом. Отсекал, сообразно своим же заветам, всё лишнее от огромной глыбы мрамора. Два года и четыре месяца стучали его молоток и долото. И вот всё было закончено. Принимать работу пришла вся местная знать и, в частности, глава городского правительства Пьеро Содерини. Он, собственно, и был главным заказчиком этой статуи. «Никому не кажется, что нос Давида слишком велик?»
Реакция Микеланджело была удивительной. Без упрека, без попытки опровергнуть правительственные слова, он молча приставил лестницу к статуе, в одну руку взял инструмент, во вторую незаметно прихватил с подножия пригоршню мраморной пыли, поднялся по лестнице к лицу статуи и стал якобы стучать долотом по носу своего великого творения.
На голову комиссии полетела мраморная пыль.
Через несколько минут поправки в давидовскую конституцию были внесены. Микеланджело спустился и почтительно поинтересовался, нравятся ли заказчику внесенные изменения. Пьеро Содерини воскликнул: – Вот теперь совсем другое дело! Теперь статуя прекрасна!
Я всё жду момента, когда Игорь Ильин, выслушав мои предложения по изменению текста («мне кажется, что тут надо дотянуть, а тут убрать „и“»), пришлет мне на следующий день неизмененный текст, а я воскликну: «Вот это совсем другое дело!»
И вот тогда на мою голову откуда-то сверху полетит белая, как снег, мраморная пыль. И тогда можно будет праздновать настоящий день парашютного спорта.
«И вот,
когда, наконец, гости соберутся,
мама пригласит всех за накрытый стол
и предложит выпить
за своего ненаглядного мальчика,
за своего ненаглядного мальчика,
не чокаясь.
…из дыма, солнца, водки и конфет,
из дыма, солнца, водки и конфет…».
Дмитрий Воденников
Я боюсь начать
разговаривать
с миром стихами.
Это значит,
я позабуду обычную речь,
перестану отвечать
на обычные фразы,
перестану слышать
обычных людей.
Ведь стихи – это
воздух,
которым невозможно дышать,
если только не хочешь
захлебнуться;
свет,
который невозможно увидеть,
если только не хочешь
ослепнуть;
слова,
которые невозможно осмыслить,
если только не хочешь
сойти с ума.
Но я все еще слышу,
как среди ночи
ты не спишь,
все еще вижу,
как дрожит рассвет
в уголках твоих глаз,
все еще различаю
твои голоса.
И поэтому,
поэтому,
поэтому,
прощаюсь с тобой
навсегда.
Однажды
она вцепится мертвой хваткой
в твои глаза, уши и голову,
и больше уже не отпустит…
Ей семнадцать,
ему двадцать три,
у него жена и ребенок,
а она все твердит и твердит:
я люблю тебя,
я люблю тебя,
я люблю тебя…
– Но ведь я женат.
– Это жизнь.
– Жизнь?
Жизнь?
Жизнь?
Мать её.
Нет.
Это не жизнь, милая девочка,
это явление пострашнее —
то, которое
нельзя называть,
потому что, назвав,
мы его убиваем – так сказал
один большой поэт.
Наверное, ты, девочка, была бы рада
произнести одно только слово
один только раз,
чтобы свободно встать и уйти.
Но нет.
Сколько не называй её по имени,
легче не станет.
Они одногодки.
Ей двадцать семь.
И ему.
Столько же,
сколько его жене.
Ее дочь пошла в первый класс.
Каждый вечер он валится с ног
от усталости,
пьет кофе на кухне,
курит одну за одной
и просит
разбудить его вечером,
чтобы прийти домой
вечером.
Однажды она не делает этого.
Намеренно
не будит его,
и он попадает домой под утро.
Выспавшийся,
подавленный
и разбитый
вдребезги —
той, что нельзя называть —
так сильно, что сводит скулы.
Он надеется, что это болезнь —
пройдет,
пройдет время и его отпустит.
Он даже уходит из дома.
Но нет.
Все становится только хуже.
Со временем становится только хуже.
Читать дальше