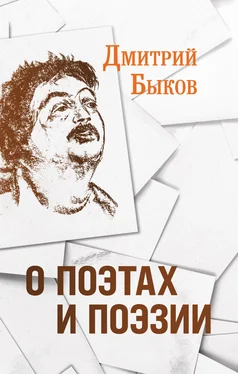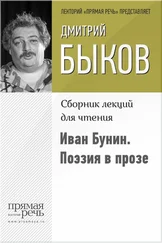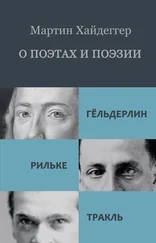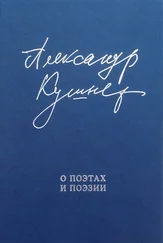Ведь лермонтовский Печорин, первый сверхчеловек в русской литературе и, боюсь, последний – сверхчеловек не от хорошей жизни. Сверхчеловеком становятся там, где нет возможности человеческого, где нет перспективы, нет веры, нет мира, где нет человечности во взаимоотношениях. Потому что каждый – и это особенно заметно в «Герое…», – каждый стремится только к самоутверждению. Выход один: отринуть постепенно все человеческое, перерасти его и сделаться тем чудовищным, тем ненавистным для всех существом, которым мы застаем в финале Печорина.
Я люблю поспрашивать детей, почему, собственно, композиция «Героя…» так противоречива, так нескладна? Потому что хронологически, в общем-то, все было бы легко выстроить: сначала «Тамань», потом «Княжна Мери», потом «Бэла», «Максим Максимыч», и где-то рядом с «Максимом Максимычем» болтается одинокий «Фаталист», маленький рассказ, который, казалось бы, ничего не добавляет к рассказу основному, но тем не менее сообщает ему глубочайшее то самое метафизическое измерение. Тем не менее начинается все с «Бэлы», продолжается «Максимом Максимычем» – с тем, чтобы мы увидели Печорина максимально отвратительным, предельно отталкивающим. Он и авторским-то взглядом увиден без любви. А в Предисловии к «Журналу Печорина» сказано: «Недавно я узнал, что Печорин умер, возвращаясь из Персии. Это известие чрезвычайно меня обрадовало». Почему такое говорится о герое? Хотя что там обрадовало? Он просто собирается издать его журнал и теперь радуется его бесхозности – ничего более. Но почему это известие его все-таки обрадовало? Потому что герою и автору важно с самого начала явить то, чем он заплатил. Ему важно с самого начала показать свою абсолютную отделенность от мира людей. И с Максимом Максимычем он выпить не хочет. И Бэлу ему не жаль. И не любил он ее, и надоела она ему. И, более того, он же прямой виновник ее гибели, не стань он стрелять в Казбича, может, чего доброго, и Казбич не стал бы ее резать. Но вот для того чтобы мы увидели героя сначала столь отталкивающим, а в конце заглянули бы в его душу и поняли причины этого перерождения – для того и нужна эта странная, вывернутая наизнанку композиция «Героя нашего времени».
Конечно, здесь надо сделать скидку и на молодое самолюбование, и на страшное количество дешевых, поверхностных и часто подражательных афоризмов. И на то, что Печорин, в общем, недалеко ушел от Грушницкого. Но при крайней своей молодости (в двадцать пять лет роман написан) Лермонтов все-таки сумел выполнить главную задачу – показать, как человек, наде ленный великой силой, не находит ей применения и в результате вырождается безусловно хоть и в монстра, но в монстра великого.
Мы не видим, в чем величие Печорина, мы не знаем его стихов, если он их пишет, мы почти не знаем его прошлого, мы не видим его в любви, потому что весь эпизод с Верой – это верхушка айсберга, и все их отношения, которые, возможно, долженствовали составить «Княгиню Лиговскую» так и не написаны. Мы ничего не знаем, но мы догадываемся. Мы понимаем, что этот человек, столь безжалостный к себе, действительно, носит в себе огромные нереализованные возможности, которые, как кислота, травят его каждую секунду.
И вот, пожалуй, это расчеловечивание Печорина и есть то, за что мы ему прощаем. Потому что мы понимаем, что другой путь – это путь Максима Максимыча, путь просто человека, который, кстати, так понравился Николаю Первому. Николай, который сопроводил известие о гибели Лермонтова словами: «Собаке собачья смерть», чем вызвал негодование даже в собственном доме, этот самый Николай писал жене: «Я уж понадеялся, что героем нашего времени будет Максим Максимыч». И в самом деле, добрый офицер, честный служака, что бы не написать? Но, к сожалению, путь Максима Максимыча – это путь тупиковый, путь унизительный. В очерке Лермонтова «Кавказец» показан финал этого пути: красный нос, хриплый голос, бессмысленные воспоминания, нищета и одиночество. Как бы мы ни любили Максима Максимыча, мы должны признать, что видеть себя на его месте не хотел бы никто из нас.
Печорин побеждает, во всяком случае, морально побеждает в наших глазах только благодаря одному очень точному замечанию из «Тамани», когда в финале этой удивительной повести (Бунин вообще считал, что это лучшее, что есть в русской прозе) он вдруг говорит: «Для чего должен был я возбудить мирную жизнь честных контрабандистов?» Вот это еще один вопрос, которым я очень люблю смущать детей. И спрашиваю у школьников своих: «А почему честных контрабандистов?» Большинство из них догадывается. Честных контрабандистов потому, что они контрабандисты, и только. Они полностью вписываются в свою социальную роль. Они честно и до конца играют ее: им положено воровать – они воруют, положено убивать случайного свидетеля – пытаются убить. А Печорин не вписывается ни в одну нишу, поэтому проносится по чужим жизням как метеор, только сокрушая их, ломая, уничтожая все на своем пути. Но ничего не поделаешь, он не может свестись ни к одной социальной роли. И в этом-то и заключается его величие – в нежелании вписываться в те жалкие ниши, которые эта реальность оставляет миру, в нежелании быть человеком этой эпохи. Он потому и есть герой нашего времени, что герой ненашего времени, никакого времени, что он герой вне любой условности.
Читать дальше