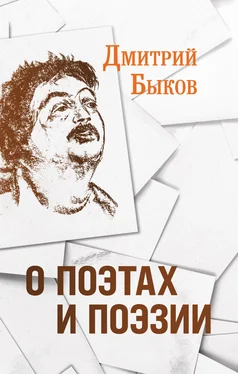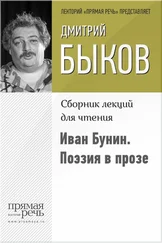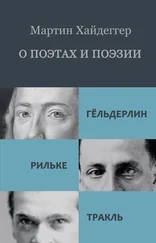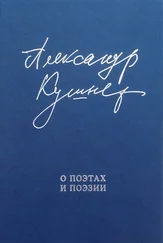Есть распространенная точка зрения, безусловно, советская, и все мы по школьным годам ее помним, что лермонтовский «Пророк» – это всего лишь пушкинский «Пророк» после разгрома декабристского восстания. Вот действительно случился 1825 год, а тут-то его и побили камнями. Разумеется, это не так. Пушкинский «Пророк» переосмыслен Лермонтовым в том смысле, что попытка «глаголом жечь сердца людей» заканчивается всегда в той же пустыне, в которой начинается действие этого текста. Имеет смысл напомнить пушкинского «Пророка» просто потому, что это большое удовольствие, это действительно высокое наслаждение – припоминать этот текст, который так странно спасся. Тот текст, который Пушкин вез с собой в бумажнике, когда ехал на знаменитую встречу с Николаем в сентябре 1826 года, после московских коронационных торжеств (весьма символично, что московских), и после этого неожиданно обнаружил этот листок выпавшим из кармана, обнаружил уже на ступеньках дворца. Слава богу, его никто не тронул, но что, если бы они прочли последнее черновое четверостишие «Восстань, восстань, пророк России…», от которого он впоследствии отказался? Так вот вспомним:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Вот здесь, собственно, Пушкин заканчивает, а Лермонтов начинает следом:
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;
Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
Я думаю, что здесь вполне сознательная бедность рифмы «вас-нас», «его-него» – чего еще и ждать от этих старцев, которые наблюдают за пророком? Пророк этот бежал в пустыню вовсе не потому, что «провозглашать я стал любви и правды чистые ученья, в меня все ближние мои бросали бешено каменья» – этого как раз можно было ожидать. Бежал он потому, что только в пустыне ему покорна тварь земная, что только в пустыне он может осуществиться, и вот именно эта благодатная и благотворная пустыня так манит Лермонтова всегда. Он так любит безлюдные пейзажи, так любит облачную лазурную степь, внутри которой ничего, кроме вечно холодных и вечно свободных облаков – это третье религиозное измерение, которого почти нет у Пушкина или которое он стыдливо скрывает. У Лермонтова оно наиболее очевидно и именно в знаменитых его первых русских трехсложниках.
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Вот здесь, в самом трехсложном членении, в самой трехстрофной композиции стихотворения совершенно явственно заложены все три основных пункта этой странной лермонтовской диалектики – самоотождествление с другими изгнанниками небесными, поиск себе какой-никакой параллели в окружающем мертвом холодном пространстве, поиск какого-то спутника, который, как и он, стремится на ненавистный юг, заканчивается в результате признанием того, что ТАМ нет ни милосердия, ни страдания, нет ни клеветы, ни дружеских еще более неуклюжих попыток помочь – нет ничего человеческого, взгляд поднимается вверх, к вечному холоду и вечной свободе. Это выход через расчеловечивание, такое же расчеловечивание, к сожалению, какое видим мы в «Морской царевне». Но никакого другого пути, кроме как стать настоящим нечеловеком, в этом мире нет, любой другой вариант – это пресмыкание, перерождение, вырождение и так далее.
Читать дальше