Кто на гребне странных снов,
Чрез забор забот прогнулся…
Сквозь таможни впалых слов
Я в забытый дом вернулся.
30 октября 2000, Марина
Всю ночь лило, штормило, угрожало
И пеной грязною несло.
Прибой шипел, высовывая жало,
С небес и крыш, как из ведра, текло.
Природа, разъяренная разводом
С антициклоном, бьется ни за зги.
Мне полуспится: теплым хороводом
Мерещатся хозяйкины шаги.
И всю-то ночь шептали мне за стенкой
Шаги и шорохи. Немытую посуду
Рука хозяйки мыла с теплой пенкой
И разутюживала стираную груду.
А по утру волна еще играла,
И гнал рванину парусов соленый бриз,
И птичья нечисть с гиком подбирала
Заснувших рыб воняющую слизь.
Декабрь 2001
Где-то недалеко,
Наверно, в ближайшем Айдахо,
Шумно рвануло в кустах
Первым порывом грозы,
А в нашем валежном лесу
Все стоят голубые сугробы
Тонкой струйкой плывет от костра
Бересты аромат – как по нервам:
Неужели теперь никогда,
Никогда не услышать пургу мне
Потаенной и странной страны,
Из которой когда-то я вышел,
А теперь вот никак не дойду?
И черемух сиреневый май,
И повисшие пьяные вишни,
Тихий шепот ребячьей любви,
И горячие слезы прощенья…
Бьется кроткая ярость огня
Запах спелой антоновки в стружках
Как-то вы там теперь без меня,
ночи стылые, дрызги и стужи?
Июль 2001
Китайский Чарли плачет сквозь экран,
но так сощурился: мне слез его не видно —
и полицейский строго и солидно
колотит по комическим мордам.
На суахили чернокожий Гамлет
«быть иль не быть» решает для себя.
Тюрьму народов Замбию кляня,
он падает в своем последнем драйве.
На острове Комодо Дон Кихот
сражается во имя Дульсинеи
и на дракона мчится, не робея,
и миражей объемлет разворот.
Я в Сан-Франциско – лишний человек,
герой времен неваших и ненаших.
Мы варимся в разнокультурных кашах,
и бег по миру – что на месте бег.
Июнь 2001
Луна моя, печальная сестра
безудержных полночных размышлений,
молитвы одинокой добрый гений
и собеседник кроткий до утра.
По океану серебристой дрожью
ты пишешь мне на языке забытом
глаголицей шумерскою, санскритом,
и я читаю – тихой светлой ночью.
Отточенная мысль от мира не сего
и музыка глубин разверзнутого неба,
и я молю возвышенного хлеба
на паперти порога Твоего.
Июнь 2001
Старое новое тысячелетие в Марине
Мы рукоплещем – океан волнуется на бис,
Встает волна – от уха и до уха,
Над горизонтами седой туман завис,
И на пуантах – белая чернуха.
Мы хлопаем, орем, мы не устали,
А океан – шалун, игрок, бахвал,
А он смеется, как товарищ Сталин
На девятнадцатом, прищурясь от похвал.
И DVD-любовь и прочие напасти —
Все впереди и только предстоит,
Мы на галерке пьем Мартини-Росси Асти,
И на поклоне океан стоит.
По-юлиански (в Папу мы не верим)
Трещит башка от выпитых вчера,
И мы, тысячелетиями меря,
Срываем пробки с сизого утра.
Январь 2001
Всю ночь ко мне стучался дождь,
Просился, куксился и хныкал,
Прощался, постучит – и прочь,
И вновь по крыше гулко прыгал.
Так тянется чужая ложь,
Так бред любви нам бесконечен,
И нет желаний превозмочь
Судьбы болезненных отметин.
Взволнован океан, его седины
В кошмаре от уставшего стыда
Стена из плача, вопли муэдзина
и памяти – для пыток – нагота.
Сквозь сон – сирена мчащейся тревоги,
В горчайшем одиночестве. Стихи
Ложатся, словно версты вдоль дороги,
И впереди – ни пробуждения, ни зги.
Январь 2001
Из сизого тумана, ниоткуда,
из дальнего еще небытия,
а, стало быть, из смерти
мерно волны
приходят, тихие, подобные дыханью
и току мыслей,
или утешенью,
но вот огромная,
наверное, цунами – рвануло где-то —
«здравствуй!» – и снова, тихо, медленно,
спокойно листают волны
скромные мгновенья
больного бытия,
усопших чувств,
раздумий
и ожидания:
«настанет ли покой? И будет ли
когда-нибудь мне счастье? Придет ли, наконец,
искомое всю жизнь очарованье
гармонии страстей
и приходящих мыслей?»
песок шуршит,
шипящая вода
мне шепчет: «успокойся,
все это ничего,
все ничего,
проходит»,
но где-то, может быть,
В глубинах сумрачных уже встает
грохочущее, с ревом:
«А, может, все еще случится?»
Читать дальше

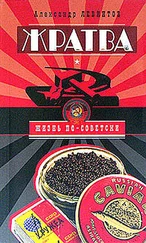
![Александр Левинтов - Книга о вкусной жизни [Небольшая советская энциклопедия]](/books/419542/aleksandr-levintov-kniga-o-vkusnoj-zhizni-nebolsha-thumb.webp)









