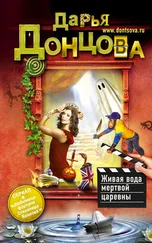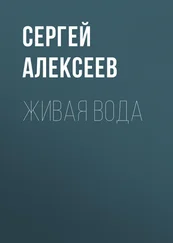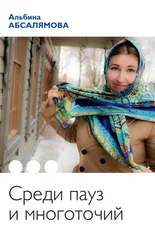Можешь молчать, ругаться,
Можешь не слушать, но
Гибнуть и возрождаться
Свойство душе дано.
Это поймёшь не сразу
(Помнить, болеть, колоть)…
Только воскреснут разум
Сердце, душа и плоть.
Только там ждёт такое
За поворотом дней,
Что истончится горе,
Станет тоска светлей.
Скажешь – да быть не может,
Нет никаких «потом»,
Слов этих пустопорожних
Смысл тебе незнаком.
Спи, дорогой. Однажды
Это поймёшь, поймёшь.
Ну, а пока – неважно.
Спи, мой прекрасный. Дождь.
ВРЕМЯ ВЕРТИТСЯ КАК КАТЛАМА…
1
Черноокий красавец кружился в неистовой
пляске,
Сотни гадов морских закипали на быстром огне,
И сказитель тянул свои зычные звучные сказки,
И змея извивалась дугой, приближаясь ко мне.
Зной стихал, уходил в никуда, наступала
прохлада.
Апельсиновый сок мутной каплей стекал по руке.
И берберская женщина сладко сулила: всё будет
как надо,
И цветок бурой хной рисовала на чьей-то щеке.
Где-то там, далеко, миллион километров отсюда,
Вы стояли, раскрывши окно, и дышали грозой.
Марроканский колдун мне мешал в порошок
кровь ежа и верблюда,
Приправлял его жёлтой пчелой, золотой
стрекозой.
Вы садились за стол, погружались в дела,
доставали бумаги,
Я несла порошок в разноцветном холщовом
узле.
Барабаны гудели, трещали туземные флаги,
И гроза поднимала бумаги на вашем столе.
2
Далеко, далеко, далеко, в деревеньке Имеково,
Ты сидишь на траве и считаешь круги в паутине.
Я в вагоне, смотрю на хрустальную Вековку,
А сама ещё там, за горой, в разноцветной
медине.
У тебя, у тебя, у тебя там ключи и уключины,
Ты готовишься в путь по холодному сонному
озеру.
…Там, в медине, ежи упирались шипами
колючими
В прутья клетки в коморке торговца рогожами.
Тишина, тишина, тишина, ты дрожишь
в изумлении,
Онемевши, следишь за озёрных кувшинок
качанием…
Там такое, такое, такое встречается в каждом
селении! –
Что слова застывают внутри, превращаясь
в молчание.
3
Чёрный учебник с зелёным глобусом –
География. Седьмой класс.
Красные горы за пыльным автобусом,
Красные горы с названьем Атлас.
Сколько их было, в том толстом учебнике,
Слов непонятных, нездешних имён!
Вечно их путал, не выспавшись, Хлебников,
Вечно не знал, где Париж, где Габон.
…Если б он ведал, что все эти горы,
Все эти впадины, все ручейки,
Он обойдёт удивительно скоро –
Разве б боялся поднять он руки?!…
Просить прощения – значит подняться с дивана,
Окунуть свои ноги в пушистые тапочки,
Посмотреть на часы – а вдруг ещё рано,
И ты спишь, и во сне тебе снятся бабочки.
(Впрочем, как же ты спишь, если время не лечит,
Если груз непрощенья подсел к твоему изголовью,
И моею холодной рукой твои трогает плечи,
Что-то шепчет, и «кровью» мешает с «любовью»).
Значит, так. Ты не спишь. Ты всё утро сидишь
за роялем.
Впрочем, нет никакого рояля, а есть пианино.
«Сюита».
И бемолям, диезам, мажорам, пюпитрам, педалям
Неспокойно. И мне неспокойно. Седой
композитор
Написал перед смертью симфонию номер
не помню какой,
Не оставив ремарок, «см» и «PS», ничего
не оставив.
Подойти к телефону, шесть цифр одна за другой,
На седьмой не решиться, и трубку на место
поставить.
А на улице Пушкина что-то горит, и сливаются
запахи-краски
Снега, дыма, и солнца, и кислых оладьев.
Воскресение прячется за скоморошечьей маской,
Призывая прощать и любить нелюбимых
собратьев.
«Все тянут руки и смотрят пристально…»
Все тянут руки и смотрят пристально,
А я боюсь этих глаз и рук.
А мне всё снятся аллеи мглистые,
И белым мелом – неровный круг.
И ты стоишь – по колено в омуте,
А мне тебя целовать не сметь.
И всё не проводишь меня до дома ты,
И всё мне снится медведь, медведь.
А я молчу, мне тебя не велено
Смущать речами, любить нельзя.
И ты молчишь. Но давно отмеряно
Забыть однажды, что мы друзья.
А руки тянут, и смотрят пристально,
И я боюсь этих глаз и рук.
Но ты смеёшься – и небо мглистое
Светлеет, тает, и меркнет круг.
Читать дальше