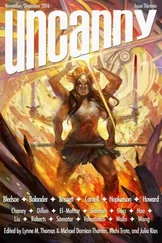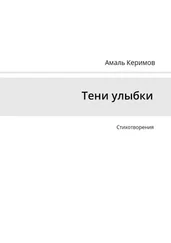Иссушен рот. Потерты губы.
Бушует кровь по венам в такт
Тому, чего так жаждут руки:
Там – виселица, там – палач.
И он людей не замечает,
Всегда и всеми был любим.
Стоит у заданного края,
И только вечность перед ним.
Неистово и бездыханно,
Как ожерельем по стене,
Бредут к нему воспоминанья
О неудавшейся судьбе.
Там было зарево разлуки,
И пламя сладостной любви.
Там было все. Но злые звуки
Похожи на предсмертный свист.
И поодаль, довольно жутко
Стояла тень его в плаще.
Рукой махала, словно шутка.
И будто все это во сне.
Я выпью грамм пальто и закушу картузом,
чтоб быть похожим на «товарищ Маяковск»,
но «ий» не доскажу, дабы не быть конфузу.
Я не товарищ, не почитываю Бродск —
ого или еще кого-то там другого,
сжимая в кулаке его печатный бюст.
Я не люблю, когда по самое по горло
социализм залит с «товарищеских» уст.
I
Январь. Последние потуги.
Стопа, как призраком легла
на этот снег, на эти будни,
где чуть зима не умерла.
Не умерла, но лишь осталась
ночами белыми во мне
подогревать больную шалость
с тоскою пребывать во сне…
II
Духота. Асфальтова плита
в феврале практически беззвучна.
Небо пылью дышится и та,
жухнет на снегу, что ненаучно.
Так же ненаучно по виску
бьют обманчиво ночные брови,
бьют же так, что тешится искус
вырвать их со звездами под корень.
«Я шёл сквозь осеннюю зиму…»
Я шёл сквозь осеннюю зиму;
бывало, птицы поют.
И снег опрокидывал мимо,
уже пожелтевший сук.
И пахло осенней отдышкой,
и пахло бледностью рук.
Я шёл, как дворовый мальчишка;
бывало, смущая мундштук…
«Этот вечер со мной – лебединый!..»
Этот вечер со мной – лебединый!
Машет крыльями прочь и прочь
облака, как замерзшие льдины,
облака – пробужденные в ночь.
Потому и, как тенью глубокой,
все бессонницею блестит.
Потому колыбельный локон
безобразно порой сердит…
Бессонница. Во всю твою длину,
и в угол комнат я свой сон припрятал.
Мы здесь одни. Своих не видим рук.
И неизвестность пробегает рядом.
А что за ней? Бессмертьем не дыша,
В молчании и комнатном тумане,
стоит весьма пространственно душа,
сон и бессонницу не различая.
Много меня прощали.
Друг мой, не пропадай.
Как мы здесь оказались?
Друг мой – неурожай.
Пали цветы на крылья,
И птицы зарылись в земле.
А не много меня любили,
Друг мой? И налегке
Сновидения не плясали.
Мне совсем не уснуть.
Слишком много меня прощали,
И того – не вернуть.
Пьянеет жизнь от свешанного солнца!
Оно давно уж высунув язык
стучит в обыденное нам оконце,
остаться на мгновенье норовит.
С Востока разливается на Запад.
И слышен стон… так плачут моряки.
На белых парусах так неприятно
сухое море известью трещит.
Оно не спит ни днем, ни скромной ночью,
не сыпется во тьме палящий луч,
он, кажется, открытою струною,
срывает гриф со скрипки серых туч.
Нам не увидеть как дымится небо,
и не услышать музыку в домах.
Не видно звезд, и все великолепье
лишь гарью оседает на руках.
«…и надо нам небо сдуть…»
…и надо нам небо сдуть,
дождем наполнить стаканы,
выпить; нам надо рискнуть!
И может быть стать богами…
«Сегодня снег произошел!..»
Сегодня снег произошел!
Ноябрь белый до инфаркта;
сегодня день противно гол-
ый целовал закат янтарный.
И смело било по глазам
еще осеннее усердье,
что по забеленным сукам
сойдет, как пыль, зима.
Как прежде…
***
Опять ты здесь, соленый дождь,
Сентябрь выжимаешь тряпкой.
Осенняя любима дрожь,
Но не листвой своей помятой;
Она любима тем, что вскользь
Сырую ржавчину с под пяток
Метет покорно к декабрю,
Чтобы рассыпаться к утру…
«Ах, какую мне песню спеть…»
Ах, какую мне песню спеть,
чтоб не знала ни жизнь, ни смерть,
чтоб не знала она меня,
чтобы платьем была полна,
чтобы волны были просты,
чтобы помнили их мосты,
чтобы их лесами листать,
чтобы к ним от судьбы кочевать.
Ах, судьба ты моя, постой,
что же делается со мной,
песни мы от войны вели,
песни бегают от вины,
этих, раненных, и не ждут,
по слогам на рассвете жгут,
и не знаю, моя вина,
что и лодка ими полна.
Читать дальше