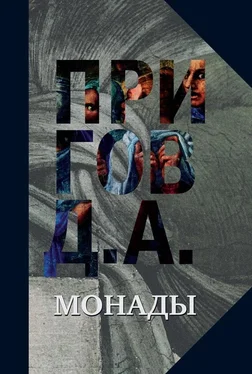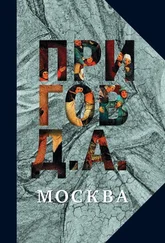Вот почему важнейшие принципы «новой искренности» приходят именно из «домашних» стихов – в текстах Пригова конца 80–90-х различные типы субъективности моделируются автором точно так же, как создавался его «Дмитрий Алексаныч». В разговоре с Эпштейном Пригов говорит о том, что, работая над текстами этого типа, он «в какой-то момент искренне впадает в этот дискурс» (НК, 69), стремясь совместить временное «влипание» с необходимым отчуждением и критикой дискурса (именно такую стратегию он и определяет как «мерцание»).
Не удивительно, что, с точки зрения Пригова, тексты такого типа требуют от автора решения «психосоматической, почти медитативной задачи»: необходимо стать другим «экзистенциально» – только так возможно разгадать и воспроизвести риторический «код» искренности, присущей данному типу субъективности и данному субъективному дискурсу с его субъективными истинами, и благодаря этому коду развернуть практику чужой – да и своей собственной! – субъективности как перформанс.
Однако есть еще одно важное отличие «новой искренности» от приговской «искренности» 70–80-х годов. В 1993-м Пригов напишет:
В первый раз, в возрасте почти 55 лет почувствовaл
себя оставленным мощным советским мифом
Бывало, я плакал как ребенок брошенный
Бывало, летал над ним, как властительное облако
И вдруг ощутил себя никак
И надо переучиваться
Вот незадача
Судя по текстам «новой искренности», это чувство посетило Пригова гораздо раньше – в начале перестройки (1986), если верить архивной датировке сборника под этим названием. А его поворот к разнообразным и многообразным практикам субъективности и стал реакций на распад единого советского мифа. «Новая искренность», таким образом, оказывается способом исследования разных, «точечных» дискурсивных практик, развивающихся при отсутствии идеологической доминанты. С этой точки зрения понятно, почему стихи Пригова 90-х годов обманывают ожидания поклонников его ранней поэзии. Он в них не столько «пародирует» властные дискурсы, сколько «проявляет» во многом еще не оформленные, но на глазах оформляющиеся практики и дискурсы разных типов субъективности. При этом он отчасти «цитирует» культурные прецеденты, а отчасти, подчиняясь риторике искренности, сам конструирует новые дискурсивные практики.
В поисках этих, ранее затененных советским метанарративом, мифов субъективности Пригов начинает с «нередуцируемого опыта женщины», создавая такие сборники, как «Жизнь Любовь Поруганье и Исход женщины» (1984), «Женская лирика» (1989), «Сверхженская лирика» (1988 – 89), «Невеста Гитлера» (1989), «Девушка и кровь» (1993), «Герой и красавица» (1995), «Мать и дочь» (1996), «Она в смысле они» (2003) и целый ряд других. Особую группу образуют стихи, разыгрывающие субъективность старушки: от «Старой коммунистки…» (1989) до «Изъязвленной красоты» (1995). Еще один большой цикл приговских деконструкций субъективности связан с детским опытом – а вернее, с культурными представлениями о детстве (см. раздел «Детские стихи»). Политики homo eroticus и гомосексуальной субъективности моделируются и деконструируются Приговым в таких циклах, как «Мой милый ласковый друг» (1993), «Эротика исполненная прохлады и душевности» (1993) и «Лесбия» (1996). Ностальгирующий по прошлому постсоветский субъект выходит на первый план в таких сборниках, как «Ностальгия» (1991 – 93), «Не все так в прошлом плохо было» (1992); «Хулиганы моего детства» (1995), и др. А субъективность, сформированная рынком и рыночными отношениями, предполагающими в свою очередь постоянный перевод любых ценностей если не в денежный, то, по меньшей мере, в количественный эквивалент, – разыгрывается в текстах, включенных Приговым в сборник «Исчисления и установления» (2001) и частично вошедших в настоящий том.
Более того – Пригов предпринимает радикальный эксперимент, пытаясь смоделировать субъективность тела и телесной жизни (и всего связанного с ней: от наслаждений до болезней). И хотя мотив борьбы с телом присутствовал и в раннем творчестве («Пональюсь-ка жуткой силой», «Я понял как рожают, Боже», «Такая сила есть во мне», «Ах, мой зуб больмя болит» и др.), начиная с 91 года «телесная субъективность» становится одним из главных героев поэзии Пригова, как видно по разделу «Осколки коммунального тела [18]. Так называется и сборник, написанный именно в 1991 году: индивидуальные тела приобретают множество «субъективностей» только тогда, когда окончательно разлагается коллективное, советское тело, сплоченное мифологическим нарративом. Неудивительно, что именно с развитием этой, телесной, а вернее, психосоматической субъективности связаны приговские размышления о «новой антропологии» – теме, чрезвычайно занимавшей его в последние годы жизни [19]. Замещение телесной жизни виртуальной, клонирование, генная инженерия – все эти научные процессы, по мысли Пригова, полностью изменят саму логику субъективности, а вслед за ней и структуру общества, став «причиной возникновения уже ново-антропологических сдвигов, существенно перекроивших бы восприятие окружающего космоса и вместе с ним восприятие и квалификацию всего предыдущего культурно-эстетического опыта человечества». Как Пригов пишет в статье «Мы о том, чего нельзя сказать» (2004) [20]:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу