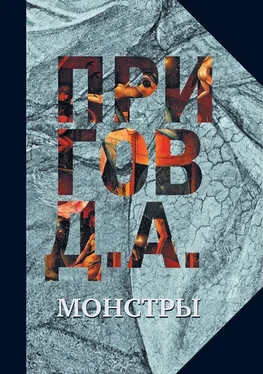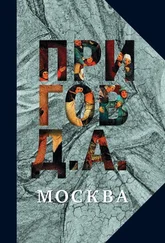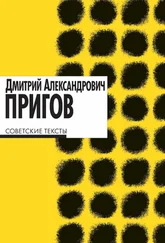1 ...5 6 7 9 10 11 ...346 Михаил Эпштейн выделяет у Пригова два антагонистичных типа (квази)религиозного сознания: разорванное сознание, принадлежащее человеку культуры, интеллигенту-одиночке, онтологически несчастному, задающему проклятые вопросы и полностью запутавшемуся в загадках бытия, и сорванное сознание, которым наделен человек из народа, эйфорически счастливый и оптимистичный, знающий разгадки всех бытийственных проблем. Говоря, что «нахождение повсюду «одной и той же сущности» и превращает нашу «разорванную способность» в сорванное сознание, поскольку форсирует недостающее единство», Эпштейн показывает, что дихотомия разорванного и сорванного сознания снимается в самом акте демиургического творения, в котором Поэт подражает Божественному волюнтаризму (и пародирует его непредсказуемость). Эффект (порою курьезный и комический) неистового религиозного поиска истины у Пригова возникает в результате совмещения нескольких социально-культурных сознаний. Но руководит этим смешением не описанный Бахтиным момент карнавальной амбивалентности, а скорее дадаистский и абсурдистский принцип алеаторики, случайной выборки той или иной социальной речи или ее огласовки (в позднем авангарде этот прием «слипания» социальных голосов практиковали обэриуты, главным образом Даниил Хармс и Александр Введенский).
Другая тенденция, представленная в приговских текстах, состоит в том, что богатое энциклопедическое наследие Серебряного века, русского религиозного ренессанса, философии соборности (В. Соловьев, С. Булгаков и С. Франк) и экзистенциального персонализма (Н. Бердяев, Л. Шестов) в позднесоветскую эпоху прочитывается в среде интеллигенции некритически, без анализа историко-культурных контекстов и генетических связей с немецкой идеалистической философией. Изобилующие цитатами и полемикой с предшествующими метафизическими системами труды, например, П. Флоренского, Н. Лосского, В. Эрна или С. Булгакова нередко воспринимаются как последняя инстанция истины, как нечто, принимаемое на веру безотносительно и абсолютно. Такой феномен, вызванный, в первую очередь, полузапретным распространением богоискательских сочинений в самиздатовских машинописных рукописях, привел к возникновению сложного конгломерата (около)религиозных мифов. Вдумчивой ревизией (не без пародийной травестии) этих мифов Пригов сосредоточенно занимается в своем творчестве 1970 – 1980-х годов.
В пьесе «Место Бога», датированной, предположительно, 1973-м годом, Пригов всесторонне рассматривает мифологию свободы воли и свободного выбора, искушения властью и ужаса богооставленности, аскетического отшельничества и земных наслаждений, мифологию, в условиях закрытого тоталитарного общества стремящуюся стать суммой моральных критериев или догматов. Видимо, текстом-предшественником этой пьесы является книга Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского», доступная в то время благодаря самиздатовским спискам или парижской републикации 1968 года в издательстве «YMKA-Press». Бердяев говорит, что «…злo имeeт глyбиннyю, дyxoвнyю пpиpoдy. Пoлe битвы Бoгa и дьявoлa oчeнь глyбoкo зaлoжeнo в чeлoвeчecкoй пpиpoдe. Дocтoeвcкoмy oткpывaлocь тpaгичecкoe пpoтивopeчиe нe в тoй пcиxичecкoй cфepe, в кoтоpoй вce eгo видят, a в бытийcтвeннoй бeзднe. Tpaгeдия пoляpнocти yxoдит кaк бы в caмyю глyбь бoжecтвeннoй жизни».
Пригов косвенно цитирует и одновременно лишает героичности бердяевскую метафизику зла, показывая ее взаимосвязь с позднесоветской риторикой «двойных стандартов» и тотального лицемерия: «Ты знаешь, у нас и в Бога даже можно верить. Ну, не повсеместно и не в буквальном смысле, а опосредованно, если это не мешает твоей основной работе. Ты понимаешь, жизнь пересиливает, пережевывает все». В концовке пьесы отшельник утверждает «невидимое присутствие Бога в любой точке», то есть сама фигура Бога и оказывается зоной невозможного и неразрешимого (и подчас идеологически спущенного сверху) этико-религиозного выбора.
Кроме того, Пригов переосмысливает важную для русского модернизма мифологему мученического пути и страдательного жребия, уготованного творцу ради искупления грехов и очищения человечества от скверны. В 1973 году Пригов, будучи скульптором по образованию, лепит свой бюст с терновым венцом, исследуя, с одной стороны, христологические аспекты самоидентификации художника, а с другой – границы или безграничность экстремального телесного опыта (за которым может открыться либо мистическая глубина откровения, либо «пустотный канон» концептуалистской редукции). В визуальных работах Пригова задействована мифологема всевидящего и надзирающего Божественного ока, проникающего в сущность вещей и паноптически наблюдающего все людские дела, мысли и поступки. В работе «Боже» второй половины 1970-х Божественное око представлено в виде цветных концентрических кругов, отсылающих к эстетике дадаизма, в частности к «Механическому балету» Фернана Леже, а в цикле «Фантомы инсталляций» изображение Божественного глаза напрямую заимствовано из традиции православной иконописи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу