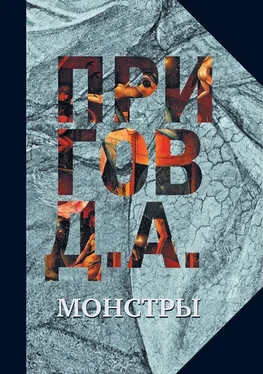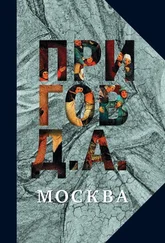– Ну что ты? Что ты? – плакал я. Все вокруг остывало и застывало. Разные кусочки всевозможного всего спешили вернуться на свои места.
– Потерпи, – говорил я и терпел. Терпел.
Я открыл глаза.
Я впервые пришел в себя после трехмесячного жара и пропадания. Осмотрелся чистыми промытыми безразличными глазами, отдельными от моего слабого и неподвижного тела. Все было спокойно и ясно. Твердо очерчено и определено по своим местам. Я был парализован. Я ощущал себя тяжелой и неодолимой ртутной каплей. Рядом сидела незнакомая старушка в серого цвета белом халате и устало глядела куда-то сквозь меня.
– Санька! Санька! – бормотал я.
– Ой, милый, очнулся! – вскрикнула она, заметив мое слабое шевеление, осмысленность во взгляде и бормотание. – Лежи, лежи, – поспешила она, хотя я и не делал ни малейшей попытки встать или даже приподняться.
– Санька! – продолжал я. – Надо уже спешить.
– Ну, ну, никуда не надо спешить, – не вникая в смысл моих восклицаний, полумашинально и успокоительно бормотала старушка, привстав и копошась в каких-то там медицинских скляночках и ваточках. – Сейчас, миленький. Ишь, как тебя.
– Санька! Санька! Он боковым уходит! – метался я одной своей подвижной стороной, грозя задавить другую неподвижную и не участвовавшую в этом порыве.
– Уходит, уходит. И пусть уходит, – продолжала бормотать старушка, повторяя мои слова и размывая их смысл. Она обернулась от своих склянок и, почти навалившись на меня, успокаивала, приводя обратно в надлежащий лежачий порядок. Ее густоморщинистое лицо страшно надвинулось на меня. Но тут же и отошло в сторону. Приняло обычный и ничего не значащий размер.
Я притих. Оглядывался, пытаясь понять, что же такое происходит. Старушка была мне абсолютно незнакома. Да в тот момент, думаю, был бы незнаком и весь прочий род человеческий. Приоткрыв обметанные губы, я смотрел на суетившуюся нянечку, своим помятым морщинистым лицом опять вплотную приблизившуюся к моему жаркому, разглаженному и розовому. Теперь она взглядывала на меня блестящими и быстрыми глазами какого-то мелкого зверька. Снова отодвинулась. Мир постепенно стал выстраиваться в реальной своей масштабности и агрегатности.
– Ба: – Бабушка, – пробормотал я.
– Лежи, миленький, лежи. Скоро мамка придет. Обрадуется-то!
Я лежал с открытыми глазами, но ничего не видел. Однако же никаких внутренних стремительных движений, провалов, вспышек и болевых ощущений уже не испытывал.
Пришла мама. Она не могла говорить. Только громко всхлипывала. Нянька приобняла ее за плечи, приговаривая:
– Ну что ты, миленькая. Все хорошо.
В глазах матери блестели, перекатываясь из угла в угол, крупные, непроливающиеся прозрачно-голубоватые слезы. Я потихоньку приходил в себя. Была весна. В больнице открывали окна и свежий ветер вместе с шумом птиц, машин и голосов влетал в палату, населенную 20–25 такими же, как и я, малоподвижными и молчаливыми детскими существами.
Прошло несколько дней.
Я узнал, что бедный мой Санька не выдержал возвратного приступа горячки и умер. Огромный кряжистый дед не перенес этого и впал в чистое безумие. Это было ужасно. Он бродил по квартире, выползал наружу, тяжело спускался по мрачной лестнице, выходил во двор, блуждал до вечера, все время повторяя:
– Еуа! Еуа! Оее! Оее! Еуа! Еуаааааа! Оеееееее!
Бедный, бедный дед!
– Он стал походить на какое-то чудище, – рассказывала мать. – Помнишь, здоровенный был, как дуб. А тут непонятно, куда все мясо ушло. Словно сожрал кто изнутри. Мослы повыступали. Кость-то у него была огромная. Широкая. Рот черный. Глаза провалились и прямо пылали изнутри глазниц. Зубы страшные вперед вылезли. Ходит немыслимый такой, – из ее рассказа проступал действительно уж какой-то и вовсе невероятно чудовищный образ. Совсем еще слабый, покрытый легкой пленкой испарины, я слушал ее замерев, с широко раскрытыми глазами. Инстинктивно я начал даже отползать от нее, пока не уперся худенькой спинкой в холодные прутья металлической спинки кровати. Вздрогнул и замер. Мать накинула на меня одеяло, поправила, подоткнула края и вздохнула. – Его хотели увезти – да куда там!
И действительно, дед, несмотря на преклонный возраст, мало кому был под силу. А в молодости, рассказывали, и вовсе был неудержим. В четырнадцатилетнем возрасте командовал дивизией красных кавалеристов, наводивших ужас на бедное население южных уездов революционной России. Любимым его почти магическим занятием было закапывание пленных живьем по голову в землю. Сам же прохаживался вдоль низко положенных вражеских голов и грозно поглядывал на притихших своих. А и то – долго ли кого из них закопать. Тем более что граница между своими и не своими столь хрупка и неопределенна, что поддается только личному дефиниционному волевому усилию. А кому оно дано? Кто взял сию тяжкую ответственность на себя сам – тот и прав. Тот и имеет право. Дед Сашки имел право. Он вдруг падал на колени и, изгваздываясь в липкой осенней грязи, прижимая левую щеку к земле, чуть не утапливал ее в сероватой жиже, оказываясь на уровне бестрепетных и почти безжизненных голов. Всматривался в них и как-то даже просительно, невыносимо жалостливо вопрошал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу