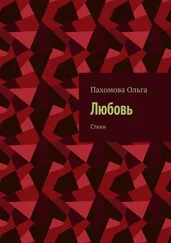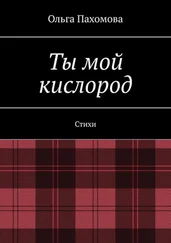Когда он настанет, последний из дней,
и я замолчу, уходя,
пусть вечер июня почудится мне
и запахи после дождя.
Без этого мы и при жизни мертвы.
И как же пронзителен вдруг
от пасынков дух помидорной листвы
на коже темнеющих рук!
Не думать о том, для чего я живу,
не помнить, что сказано мной.
Есть луч золотой, пронизавший траву,
и влага, смирившая зной.
Тяжёлые головы роз.
Виноград,
цветущий на юной лозе,
тутовник, и дрок, и морские ветра:
все краски и запахи все,
пока ещё можно смотреть и дышать —
отпущенный срок невелик —
впитаю.
Так пьют, никуда не спеша,
мелисса, тимьян, базилик.
И будет неважно, о чём прошепчу
потом, растворяясь вдали,
поняв, что подобно воде и лучу
касалась нагретой земли.
В танго
как в жизни: здесь всё спонтанно,
несмотря на обилие правил.
Если начать с азов,
он и она приглашают друг друга глазами,
от ближнего столика или через пол-зала.
Без слов.
Представьте, что между ними натянут
бикфордов шнур, с обеих сторон сгорая.
Танго
взрывается в ритме одна вторая.
В танго
два сердца грохочут, удваивая удары.
Он и она образуют целое: пару,
двуглавое существо с четырьмя ногами.
Между телами не вставить и лист бумаги.
Быть вместе – главное в танго,
и это не тайна.
Подошв, припудренных тальком,
не отрывают от пола, скользят по-кошачьи,
ласкают его и гладят:
очо, болео, ганчо,
хиро, очо кортадо…
Прижавшись щекой к щеке, она ему так доверяет,
что закрывает глаза
и делает шаг назад
в ритме одна вторая.
Он делает шаг вперёд:
мужчина всегда ведёт.
Это танго.
Просто обнимешь другого и делаешь шаг, но
здесь принято уходить после лучшего танца.
Этим он говорит без слов: я мог бы остаться,
но так хорошо мне не будет ни с кем, дорогая,
кроме тебя.
Она отвечает: знаю.
И не неволю.
Хлопает дверь – акцентом на сильную долю
ритма одна вторая.
Хоть режь его, хоть ешь его ломтями —
густейший зной стоит и росы тянет
из почвы.
И почти кипит июль.
Подпёрли липы небеса, белея
вдоль старой позаброшенной аллеи
и от жары сомлели во хмелю,
и липнет к пальцам цвет – воздушный, сладкий.
Оставь меж листьев жёсткие крылатки,
а венчики, их с пчёлами деля,
срывай, шальным не оставляя грозам.
Смешаешь с лепестками дикой розы
и настоишь на мятных фитилях
ратафию.
Иванов день всё ближе.
Не взят никем, в траве расплылся жижей,
заплесневел по шляпку белый гриб.
Отнимет спирт у розы, липы, мяты
их сок, и цвет, и мёд.
И в день девятый
глотни его, почуяв жар внутри.
И нипочём теперь любое лихо.
Иди: не клят, не мят и шит не лыком,
бери что можешь.
Отдавай что зря.
Есть две недели для цветенья липы.
Ты только их и помни, поелику
всё явственней дыханье ноября,
когда старик свезёт на тачке ульи
в гараж – а пчёлы грезят об июле —
зима ему оскалилась в лицо.
И волосы её полощет в небе
и обирает липы ветер, гневен,
и им орёт на сотни голосов.
Но я тяну одну и ту же ноту:
вернётся день, где полны мёдом соты,
и ты пчеле лепечешь: не ужаль,
чтоб ангельских цветов, крылатых, белых
душа, коснувшись, пела и горела —
хоть режь меня, хоть ешь меня с ножа.
Камнетёс завидует гончару:
мой резец по мрамору твёрже рук,
слабых рук, которыми месят глину.
Что же нем и холоден мрамор тот,
что граню я истово, а поёт
тёплым голосом свисток его соловьиный?
Жажду я гармонии на века.
Мрамор отшлифовывает рука:
чтобы ни погрешности, ни щербинки.
А у него в руках – прах. Комки.
У него – безделицы, черепки,
что едва домой донесёшь от рынка.
Камень устоит. Всех переживёт.
И граню его я за годом год
яростнее, чтобы стал совершенней.
И твержу себе: не напрасен труд.
Пусть не вдруг, не сразу – когда умру,
кто -нибудь уменье моё оценит.
Вспомнит, как я правил свои резцы,
мерил плиты, чтоб вознеслись дворцы,
чтобы храмы высились горделиво.
Только дразнит звук на чужих устах,
этот свист насмешливый: к праху прах,
всё одно когда-нибудь станем глиной.
От неё тепло домовой печи,
из неё и кровля, и кирпичи,
и свистулька, сделанная с любовью.
Глина оттого льнёт к простым рукам,
что сулит бессмертие простакам.
Мрамор окончателен.
Он – надгробье.
Читать дальше