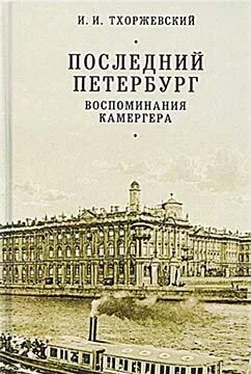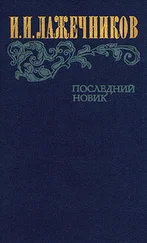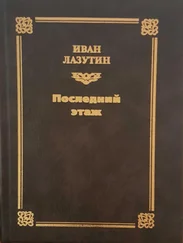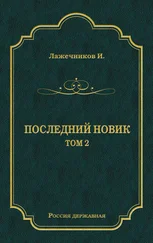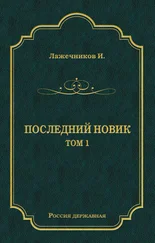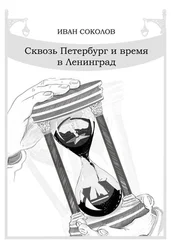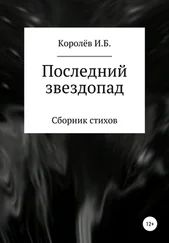Окончательное решение тучковской загадки откроется нам, вероятно, только тогда, когда будут напечатаны воспоминания самого Александра Ивановича. Но вот, на скорую руку, несколько штрихов. И несколько необходимых поправок.
Страстная преданность родине, ее военной мощи, быту старой и богатой Москвы… При столь же страстной ненависти к Государю. Вот основной узел в сердце А. И. Гучкова.
На его безмерную, исключительную по силе и искренности любовь к родине Россия так никогда не ответила ему взаимностью. Так никогда и не полюбила его по-настоящему.
Зато — в ответ на ненависть к трону — ответная ненависть у Государя и, в особенности, у императрицы, создалась прочная. Перечтите письма царицы в Ставку! Гучков, Гучков — чудится везде и всюду; это он — главный враг, он — олицетворение революционных козней. Его зловещая тень заставляет не любить Москву, отворачиваться от Кривошеина и Самарина… Точно предчувствие, что именно этот коварный враг приедет требовать отречения.
В рассказе Шульгина о поездке во Псков с Гучковым есть признание: как он, Шульгин, внутренне боялся: а вдруг Гучков скажет Государю что-нибудь тяжелое, злое, обидное… Конечно, этого не случилось. Это было бы недостойно Гучкова. Но самый факт приезда именно А. И-ча за отречением — был уже излишней тягостью для Государя. Морально — как раз Гучкову ехать во Псков не следовало.
Н. В. Савич в своей искусной и обстоятельной защите памяти Гучкова предпочел вовсе не упоминать об этой поездке. Он выгораживает память А. И-ча (правда, с оговоркой — «насколько я знаю») и в другом отношении: «прямого участия в революции не принимал». Увы, с осени 1915 года принимал — и прямое. Тому теперь категорическое подтверждение в признаниях П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского. Да иначе — как и попал бы А. И. Гучков в военные министры Временного правительства?
Но как раз тогда, когда А. И. Гучков достиг, казалось бы, двух главных целей своей жизни: 1) Государь отрекся и 2) именно он, Гучков, получал в свои руки русскую армию, — тут-то и ждала катастрофа.
Старая, дорогая московскому сердцу Гучкова Россия — без Государя не просуществовала и суток! Суток не просуществовала и эфемерная военная власть самого Гучкова. «Приказ № 1», изданный помимо него совдепом, сразу же разрушил призрачный сон министра. Оказалось — как это с выпуклой яркостью очертил в своем некрологе Гучкова А. Ф. Керенский, — что вне небольшого кружка штабных военных, сотрудничавших с Александром Ивановичем еще в доброе царское время, никому , решительно никому в русской революционной армии этот штатский военный министр, «барин в теплом пальто и с палкой», — не нужен! Справа и слева Гучкова окружили ненависть, недоверие, глухая стена злобы.
Смертельно раненный революцией, Гучков ушел из Временного правительства с надрывным криком: «Россия гибнет!» — но и со щемящей внутренней болью, что именно он, он сам — один из виновных.
Гучков скоро отрекся от власти и от революции. Когда арестованный Государь узнал от Керенского об этом отречении и падении своего врага, он не только не испытал какого-либо злорадства, но пришел в искренний ужас, что вот и Гучков затравлен — слева, совдепом! Надвигается какой-то уже беспросветный мрак… «Что еще готовит Провидение нашей несчастной родине!» — вот крик, вырвавшийся в дневнике из царского сердца, несчастного сердца, слабого, но несравнимого по благородству — с «подданными».
После первой революции 1905 года Гучков открыто встал на сторону правительства. Он уже и тогда отрицательно относился к династии и ее титулованному окружению, он питал и весьма «кислое расположение» к автору манифеста 17 октября, графу Витте (слова самого Сергея Юльевича, платившего Гучкову злобой и презрением), но Александр Иванович верил тогда в самого себя и, еще больше, в Столыпина.
Гучков стал душителем революции, — пишет Керенский. Искренний конституционалист пошел на сотрудничество с сомнительным, — пишет Милюков.
Слово «сомнительный» — не подходящее к Столыпину. Но и по существу: А. И. Гучков был конституционалистом примерно того же жизненного, а не бумажного склада, что и Столыпин. Как раз Гучков и подсказал Столыпину (как правильно утверждает Керенский) «переворот 3 июня», то есть убедил Столыпина, после неудачного опыта с двумя первыми, революционными Думами, изменить опрометчивый избирательный закон Витте, пожертвовать формой законности для спасения идеи Думы и конституции.
Читать дальше