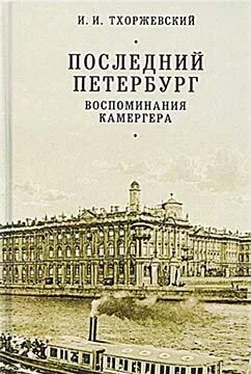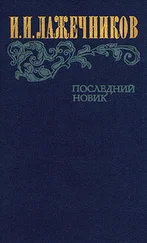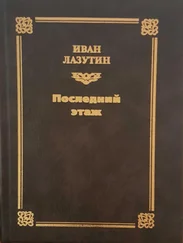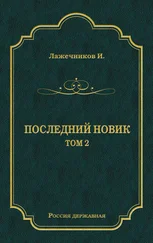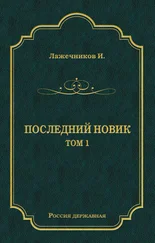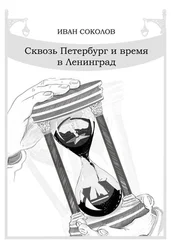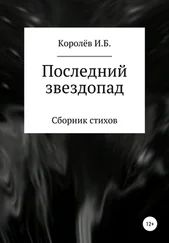В то время не говорили «догнать и перегнать Америку», но масштабы и темпы колонизационной работы пришлось взять рекордно-американские. При отсутствии в Сибири земства и общей отсталости сибирской администрации Переселенческое управление занималось всем: проводило дороги, торговало молотилками, строило больницы, копало колодцы, корчевало и осушало, сооружало церкви, посылало в глушь — крестить и хоронить — разъездные принты…
Всем этим Глинка увлекался до самозабвения.
Пришлось ему снаряжать в сибирские дебри и ученые почвенно-ботанические экспедиции, подготовить почвенную карту Сибири, издать громадный, двухтомный, поистине замечательный труд «Азиатская Россия». Без плана, без науки работать уже было нельзя.
На местах выхода переселенцев завязались прочные и дружеские отношения с земствами. И в разросшемся Переселенческом управлении ежедневно толпились и перемешивались всех толков, всех образцов русские люди…
А сам «переселенческий батько» — с упрямо-хохлацкими, висевшими вниз усами — безвыходно, неделями, сидел в думских комиссиях, отстаивая новые, теперь уже многомиллионные кредиты. Страстный спорщик и хлопотун, Глинка любил это «сидение» в Думе; да и Дума его любила. Он сумел отождествить себя с переселенческим делом, жил им — до мелочей. Подчиненные им гордились, авторитет у своих был подавляющий.
Хитрый Петербург все это знал и ценил. Он не мешал Глинке — взятому Кривошеиным как бы на поруки — диктаторствовать в своей области, хотя многое там и плохо вязалось со столыпинской главной линией… К оригинальной, красочной, во многом провинциальной фигуре Глинки привыкли. Даже блестящие старческие тени Мариинского дворца, шепотом брюзжащие о нем раньше: «неглиже с отвагой», внутренне его уважали.
Глинку сделали товарищем министра, но сохранили за ним Переселенческое управление: боялись тронуть… Он так и оставался бессменным руководителем всего земельного дела в Азиатской России. Можно сказать, что в царствование Николая Второго Глинка был для переселенцев (своего рода «государственных крестьян», хотя и свободных) своего рода «сибирским Киселевым», только без министерского звания…
В министры Григорий Вячеславович не прошел. Тщетно опальный Кривошеин проводил именно его на свое место. Впрочем, по складу натуры и дарованиям Глинка едва ли был политическим деятелем. Он был блестящим хозяйственником, одним из строителей нашего народного и государственного благополучия перед войной, русского, невиданного раньше расцвета («просперити»!) в предвоенные годы.
Прервав переселение, война принесла Глинке новую великую и ответственную заботу — продовольственного снабжения армии. Глинка и тут работал сверх силы — безмерно, бескорыстно; и пусть хаотично, переобременяя себя мелочами, зато всегда продуктивно; труд Григория Вячеславовича был всегда связан — крепким ремнем! — с реальными колесами жизни. Военное командование им дорожило; Государь сделал сенатором; союзники французы прислали командорский крест Почетного легиона.
После революции Глинка побывал в Константинополе — «турецким нищим», как он сам над собою подсмеивался, и в Крыму — врангелевским министром земледелия; наконец, в русском Париже — скромным работником Красного Креста.
Спору нет, почетные страницы крушения. Но жизнь стала такой убогою — по сравнению с прежней кипучей деятельностью! Бедный, милый, добрейший Григорий Вячеславович!
Душевную боль изгнания утоляла в нем только вера, глубокая внутренняя религиозность. Да оправдается же он ныне перед Всевышним этой своей верою! И — трудами, принесенными им, с таким жарким упорством, родине.
1934
А. И. ГУЧКОВ И ЕГО ПОРТРЕТЫ {20}
После недавней (14 февраля 1936 года) смерти Александра Ивановича Гучкова — вот уже три ярких статьи о нем! Три больших, во весь рост, портрета. Подписаны они крупными именами: Н. В. Савича («Возрождение»), П. Н. Милюкова («Последние новости») и А. Ф. Керенского («Современные записки»). Все три автора дают любопытнейший исторический материал. Но рисуют они — три совершенно несхожих между собою портрета.
Так бывает. Портретист, а особенно портретист с именем, всегда видит по-своему, невольно подбавляет к изображению свои собственные душевные черточки. Но тут, в сложном и противоречивом облике А. И. Гучкова, трактовка портретов уж чересчур различна.
Уловлено, подчеркнуто ли главное? Основное, необщее выражение политического лица — то выражение, с которым А. И. войдет впоследствии в русскую музейную галерею?
Читать дальше