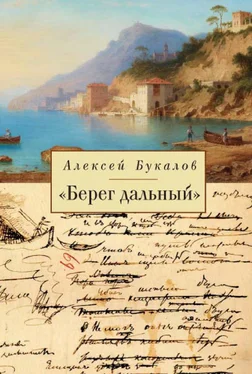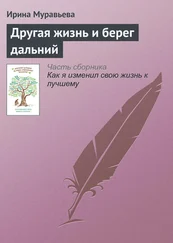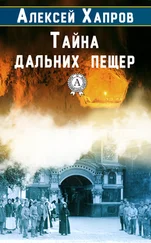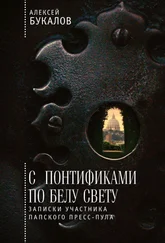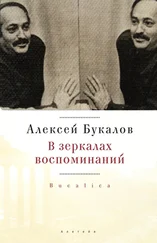Тридцать три года спустя Д.Д. Благой вновь призвал к сбалансированному подходу к биографическим фактам и свидетельствам. «Формальный и социологический методы, – писал он, – пройденный этап нашего литературоведения, хотя рецидивы того и другого порой дают себя знать. Но в настоящее время существует настороженное отношение к привлечению фактов личной и общественной жизни писателя для объяснения тех или иных явлений его творчества. В этом видят чуть ли не возврат к старому «биографическому методу», впадение в «биографизм». С этим соглашаться нельзя. Биография в широком и правильном понимании этого слова (не только события личной жизни писателя, тесно связанной с современной ему исторической обстановкой, явлениями жизни общественной, но и его мировоззрение, история его духовного развития), с одной стороны, с другой – его творчество представляют собой диалектическое единство [75] См.: Левкович Я.Л. Биография Пушкина. Итоги и проблемы изучения. 1966. С. 251—302.
. Поэтому биограф, в центре внимания которого – история жизни писателя, не может игнорировать самое главное в ней – его художественные создания. Наоборот, исследователь творческого пути писателя, в центре внимания которого находится именно это главное, отнюдь не должен отказываться как от привлечения, там, где это нужно, биографического материала, так и от возможных объяснений фактами жизни фактов творчества» [76] Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина. 1824–1830. 1967. С. 10.
.
Таким образом, самое главное – в правильном понимании взаимосвязи биографии и творчества. Один из первых наших пушкинистов П.И. Бартенев вспоминал: «Князь П.А. Вяземский журил нас, что мы в каждом произведении Пушкина ищем черт автобиографических, тогда как многое писал Пушкин, вовсе забывая о себе лично» [77] Русский архив, 1911. Кн. I. С. 648.
. Через много лет в статье «Об автобиографичности Пушкина» В.В. Вересаев тоже призывал к осторожности: «Пользоваться его поэтическими признаниями для биографических целей можно только после тщательной их проверки имеющимися биографическими данными, а никак не в качестве самостоятельного биографического материала» [78] Вересаев В.В. В двух планах. М., 1929. С. 78–79.
.
Стереотип «Пушкин-африканец» прочно укоренился в представлениях о русском поэте, хотя и не укладывался в канонический образ деятеля «великого и всенародно признанного». С поразительной иронией отметил это наш современник Дмитрий Пригов в пародии «Звезда пленительная Русской поэзии». Вот как там описана сцена на балу: «Входит тут Пушкин, высокий, светловолосый, с изящными руками, оглядел все это космополитическое общество и говорит зычным голосом: «Господа, на нас движется Наполеон». Все смущенно посмотрели друг на друга, словно он какую глупость при иностранце сморозил. А племянник Геккерена, маленький, чернявенький, как обезьянка, с лицом не то негра, не то еврея, вдруг ловко подставил великому поэту ножку и ушмыгнул, как зверек, в толпу засмеявшихся великосветских бездельников» [79] Пригов Д.А . Звезда пленительная Русской поэзии. В сб.: В.Ерофеев , Д. Пригов, В. Сорокин. ЕПС, М.: Зебра Е, 2002. С. 245–246.
.
Современный таджикский писатель Тимур Зульфикаров в эссе-притче о Пушкине тоже увидел поэта на светском рауте, в Зимнем дворце. «Царь сказал: Пушкин поэт, когда ты входишь в залу – душно становится в зале. Ветер горячий приносишь ты что ли, поэт? Иль с тобой влетает, впадает твой сахарийский горячечный Ганнибал, прадед иль дед? Твое генеалогическое нерусское древо смутно колышется как пальма в кадке…» [80] Зульфикаров Тимур. Смерть Пушкина // Независимая газета , 05.05.1993.
И вновь сошлемся на исследование Б.И. Бурсова: «В словах Пушкина о своей внешности, якобы безобразной, но как раз в силу этого не отдаляющей, а, напротив, приближающей к осуществлению всей своей человеческой природы, заключен тот общий смысл, что всякий человек вправе воплотить себя именно как определенное, единственное в своем роде духовное существо, вопреки всяким неблагоприятным обстоятельствам. Для этого необходим соответствующий темперамент… Но когда у нас пишут о темпераменте Пушкина, то дело чуть ли не сводят к его африканской наследственности. Разумеется, мы не можем сбрасывать со счетов и этого фактора. Однако сама по себе наследственность ничего здесь не объясняет. В данном же случае она имеет значение, поскольку Пушкин и ее сделал темой своей поэзии (курсив мой. – А.Б. ). И в своей наследственности Пушкин усматривал элемент, входящий в формулу его гениальности» [81] Бурсов Б.И . Цит. соч. С. 280.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу