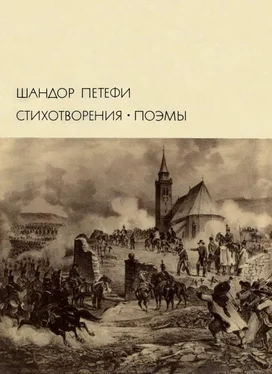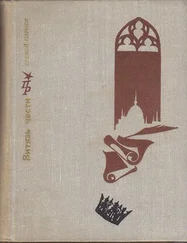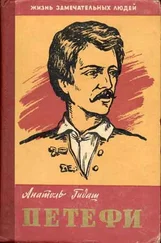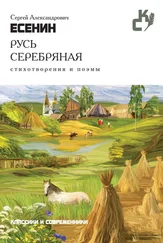Эта ранняя автобиографическая лирика по многим причинам заслуживает внимания. Здесь мы впервые встречаемся с несвойственной венгерской поэзии тех лет естественностью и непринужденностью. В период засилия романтизма Петефи возродил заглохшие традиции Чоконаи, отображая свой внутренний мир. И не надо забывать, что это был духовный мир человека не дворянского или буржуазного круга, а свободного художника, постоянно общающегося с народом. Такая форма жизни уже самой своей общественной природой влияла на формирование личности Петефи, и не трудно понять, как сложился его живой и непосредственный характер, в чем истоки его поэтической интонации, не трудно увидеть тот подвижной общественный фундамент, на котором выросло его творчество. Естественность и непринужденность возведены у молодого Петефи в ранг поэтической позиции, они определяют его видение мира и место поэта в этом мире.
Вот, например, стихотворение «Побывка у своих» (1844). Юноша, после долгого отсутствия, возвращается домой и снова сидит за одним столом с отцом и матерью. С поразительной простотой передает поэт эту волнующую сцену:
С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!
За много лет скитаний
Я не видал родни.
Отца, сверх ожиданий,
Скрутили эти дни.
Поговорили вволю,
Пред тем как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь.
Бельмо в глазу отцовом
Такое ремесло, —
Мне с ним под отчим кровом
Опять не повезло.
(Перевод Б. Пастернака)
Даже в живой разговорной речи трудно было бы с большей естественностью передать то, что хотел здесь сказать Петефи. Но непринужденная интонация этих стихов вовсе не объясняется недостатком «поэтичности»; напротив, это истинная поэзия, но совершенно новая, чуждая какой бы то ни было позы; пуританская простота лишь подчеркивает силу этой новой лирики. «Побывка у своих» — первое классическое воплощение поэтического кредо, которое позднее Петефи сформулировал так: «По-моему, поэзия — это не господская гостиная, куда дозволено являться лишь разодетым и в начищенных до блеска сапогах; поэзия — это святая церковь, в которую можно войти и в лаптях, и даже босиком». Действительно, поэт «в лаптях» вошел в семейное святилище — отцовский домик в Дуна-Вече и преобразил в высокую поэзию семейную беседу за чаркой вина. Деревенскую хату, степь, табунщика, трясущуюся по дороге телегу нельзя было встретить в литературе тех лет. Их надо было сперва по-новому увидеть в жизни, а затем, посредством поэзии открыть глаза людям на подлинную красоту этой простой действительности. Здесь мы подходам к началу венгерской демократической поэзии XIX века.
В этот ранний период, вплоть до 1845 года, большое место в творчестве Петефи принадлежит стихотворениям в форме народной песни, зарисовкам народного быта и характеров. Поэт создает ряд так называемых «описательных стихотворений» и охотно выражает свои чувства в застольных песнях. Здесь он несколько отступает от субъективной манеры ранней лирики и приходит к более объективному методу. Народные песни интересовали поэта и в плане чисто литературном, но, разумеется, больше всего волновала Петефи сама жизнь, отраженная в ни»: ведь главным источником впечатлений для него был народ. В своей поэзии он поднялся до реалистического обобщения народной жизни, а его искусство, в свою очередь, воздействовало на эту жизнь. Народные песни, сочиненные Петефи, и его жанровые зарисовки были, если можно так выразиться, новым «обретением родины», на сей раз средствами народной поэзии. Впервые в литературу вошли в качестве полноправных и даже главных героев пастухи и бетяры, деревенские молодухи и босяки, подвыпившие гуляки и забулдыги. Это был целый мир, до которого никогда прежде не снисходила литература, мир, узаконенный Петефи и получивший права гражданства в его поэзии.
Независимо от того, ведется ли в этих песнях речь от первого лица или персонажи описываются в третьем лице, здесь не может ставиться вопрос о тождестве лирического героя и личности самого поэта; но всю тональность этих произведений, всю систему содержащихся в них нравственных оценок определял духовный мир Петефи, его жизнь. Более того, поэт и в жанре народной песни нередко выражает свои глубоко личные чувства. Так, в песне «Кто таков я? — Не скажу…» (1843) речь совершенно очевидно идет о разбойнике — бетяре; но настроение этого стихотворения, его горькая интонация — как очень точно выразился Дюла Илеш — «связаны какой-то тайной нитью с душой поэта»:
Читать дальше