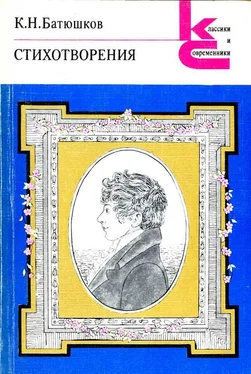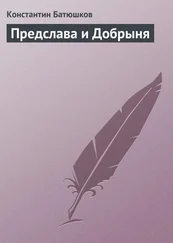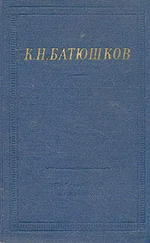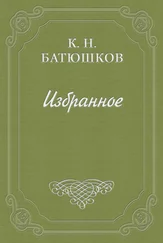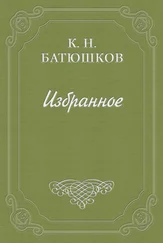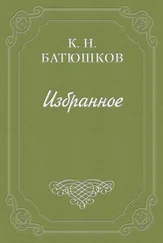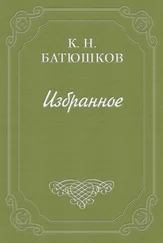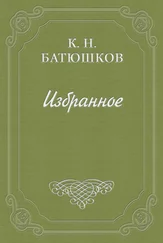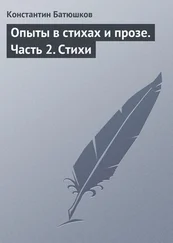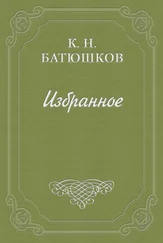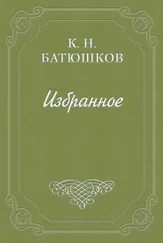И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улей и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Стеклись, нагрянули за честь твоих граждан,
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян…
Какая поэзия в перечислении географических имен, поэзия, рождающаяся от того, что география на наших глазах одухотворяется историей, и Россия, бывшая до тех пор для Европы чужим и странным именем, за которым скрылись безграничные дикие пространства, вдруг явилась в самом сердце цивилизованного мира победителем, гордым и великодушным. Исторически — сбывалось то, что начал Петр. Поэтически — завершалось то, что предсказал восторг ломоносовских од, одухотворенный верой в будущее России, впервые наполнивший ее имя поэзией. Если же перевести взгляд с прошлого в будущее, уже готовое наступить, то вполне уместно вспомнить слова Белинского о Батюшкове: «Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских…» И даже более того — зрелого Пушкина, автора «Полтавы» и «Медного всадника».
Каково же место Батюшкова в русской литературе, кто он в терминах историко-литературных? Сентименталист, романтик или кто-то еще? И не то, и не другое, и не третье, хотя и то, и другое… Дело здесь даже не в самом Батюшкове, не только в его сложности, присущей каждому крупному писателю и выходящей за рамки любых однозначных определений. Дело прежде всего — в судьбе русской литературы, которая за несколько десятилетий ускоренно проходила тот «курс», который для литературы английской или французской растянулся на несколько веков. Вот почему в творчестве каждого значительного русского писателя — от Ломоносова до Пушкина — есть черта и Возрождения и Просвещения… Постепенно выравнивался исторический шаг с современными европейскими литературами, но попутно доделывалось то, что было некогда пропущено: формировался язык национальной культуры, которая овладевала просвещенной мыслью, в том числе и центральным для нее понятием — о достоинстве и величии человека.
Трудно сказать, пережил ли кто-либо из русских поэтов столь же восторженно и вдохновенно, как Батюшков, чувство участия в европейской культуре, принадлежности всему, что есть в ней лучшего, достойного, прекрасного. Это было чувство полноты и полноправности обладания, что Батюшков и выразил в заглавии, данном мыслям из записной книжки — «Чужое: мое сокровище». То, что прежде было чужим, понятое и пережитое, становилось своим, не повторялось, а создавалось заново и по-своему. Батюшков еще и потому насмешливо, несерьезно смотрел на борьбу литературных обществ, что самого себя и своих друзей-единомышленников ощущал состоящими в том обществе, где сочленами — Гомер, Тибулл, Петрарка. Тассо, Парни, Шиллер, то есть все, кого он переводил, перелагал, в ком ловил отражение собственных чувств, кто для него были домашними богами-покровителями, его Пенатами.
И еще одно имя — Байрон. Батюшков в числе первых начал переводить в России его, своего сверстника, ставшего символом нового искусства — романтического. Принадлежал ли этому искусству и сам Батюшков?
В его творчестве перед нами не готовое, но как бы становящееся романтическое сознание. Сознание, которое вначале еще слишком погружено в открывшийся ему чудесный мир красоты, поэзии, чтобы глубоко задуматься о том — достижима ли эта красота, доступна ли мечта. Вначале достаточно того, что она, возвышающая мечта, есть, — в ее присутствии легко проходят первые приступы меланхолии. Батюшков еще во многом классичен в своих эстетических привычках: он говорит, оглядываясь назад, подкрепляя себя лучшими образцами, которые, правда, он выбирает свободно, по своему усмотрению и которыми собственного выражения нимало не сковывает. Скорее он их заставляет приспосабливаться к себе, чем себя к ним, значительно усиливая в них то, что сам хотел бы сказать.
Высший момент одушевления, радости в его жизни и творчестве будет и началом болезненного разочарования. Прекрасно чувствовать себя победителем в центре Европы, но тяжким предчувствием томило возвращение. В «Судьбе Одиссея» Батюшков готов объяснить себя в образе гомеровского героя: «…Проснулся он, и что ж? Отчизны не познал». Аналогия едва ли верная. Скорее батюшковское чувство при возвращении совпало с тем, что пережили многие русские офицеры: слишком хорошо они узнавали все то, что оставили, находя неизменным. Это было страшным, заставляя одних помышлять о тайных союзах, повергая в уныние других:
Читать дальше