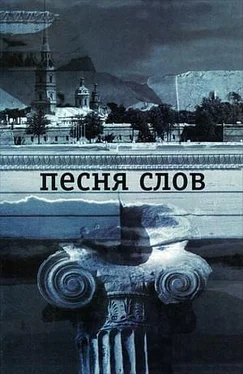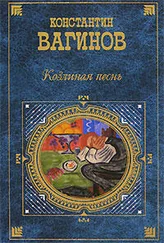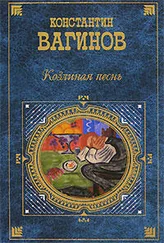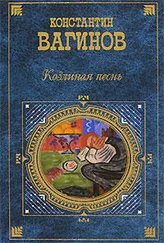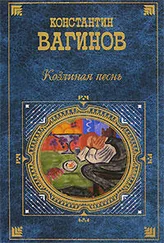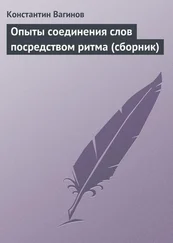Стихи Вагинова есть одно из самых странных явлений, которые мне известны в искусстве. Единственное, на что они похожи, – это живопись Чурляниса.
Вагинов весь погружен в музыку и остро-враждебен беллетристике. Последовательность слов и образов в его стихах едва ли может быть мотивирована чем-либо, кроме звукового сцепления. Но это не игра звуками, как у символистов или у Хлебникова, а логически-стройные периоды в причудливейших между собой сочетаниях.
В России нашлись догадливые люди, решившие, что в стихах Вагинова скрыта новая поэтика. Это наивная мысль. С точки зрения метода и формы в Вагинове нет ничего, – бред и тупик.
Но нельзя не чувствовать его неподдельной, глубокой взволнованности, естественно сказывающейся в ритме, его подлинно-поэтического восприятия жизни и мира. И после всех споров о значении формы и содержания, о мастерстве и «нутре», нельзя все-таки равнодушно встретить человека, который может стать поэтом.
Я подчеркиваю: может стать. Вагинову не надо, конечно, учиться в какой-нибудь студии. Технику он поймет и научится ценить ее. Но ему надо много и долго думать и не бояться быть менее своеобразным. Это главное. Если у него хватит силы и решимости, – это будет лишним подтверждением того, что он поэт. <���…>
Л. Борисов. Из книги «Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни»
Л. БОРИСОВ. Из книги «Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни». – М., 1967. С. 87–89 .
Я подружился с Константином Вагиновым – поэтом породистым, по выражению Кузмина; его стихи напоминали, по своим ассоциациям, что-то полусонное, что-то где-то слышанное, милое, невнятное, – может быть, немного Мандельштама, чуть-чуть Вертинского (те его песенки, которые сочинял он сам, хотя таких и немного) и очень много своего, вагиновского.
<���…>
Собирал книги Вагинов по какому-то своему принципу: не те, что были редкими, – на это у него не было средств, и не те, которые ему могли нравиться, – такие он получал в подарок от любящих его; он приобретал, к примеру сказать, разрозненный томик на французском или немецком. Какого автора? Только и именно того, о ком он и сам впервые узнал, взяв в руки книжку.
– Надо же посмотреть, в чем тут дело. Да и год издания, смотри! – тысяча восемьсот тринадцатый…
Он знал латынь, греческий, на его полках стояли редкие издания и на этих языках в переплетах из свиной кожи, с застежками, напечатанные лет двести, двести пятьдесят назад…
Летом двадцать третьего года он пригласил меня на вербный базар на площади у Исаакиевского собора:
– Покажу диковинку, Леня, пойдем!
Диковинка заключалась в том, что книги на этом базаре продавались на вес. На килограммы. От двугривенного до рубля килограмм.
<���…> Здесь мы познакомились с хозяином развала старой книги – <���…> Александром Яковлевичем Герцем: много позже он возглавлял торговлю старой книгой на Литейном и Большом.
Вагинов рылся в книжной груде, откладывая в сторону какую-нибудь чепушинку, диковинку. <���…> Я <���…> обнаружил В. Розанова с дарственной надписью А. С. Суворину. Вагинов <���…> нашел Юрия Беляева с дарственным автографом артистке Грановской [28].
И. Наппельбаум. Из письма к Н. Берберовой в Париж (1926 г.)
И. НАППЕЛЬБАУМ. Из письма к Н. Берберовой в Париж (1926 г.). – Берберова Н. Из петербургских воспоминаний // Опыты. 1953. № 1. С. 116 .
Костя Вагинов много пишет, много работает, много учится и читает, главным образом, старую французскую литературу. Книжка его вызвала много толков, она взбудоражила всю литературную публику. Только теперь они заметили, что это «крупное явление» в русской литературной жизни и заговорили о том, что надо что-то делать, чтобы его выделить, чтобы побольше внимания вообще оказать вагиновскому творчеству. Чтобы издать эту книжку, материально сложились почти все литераторы Ленинграда и теперь гордятся ею. В Союзе Писателей был устроен вечер с приветственными речами, с докладом и т. п. И в частном доме читался тоже доклад о книжке.
<���Неустановленный автор> О стихах К Вагинова <���начало доклада или статьи>
<���Неустановленный автор>. О стихах К. Вагинова <���начало доклада или статьи>.
В Собрании стихотворений на с. 222–223 приводятся устные воспоминания М. М. Бахтина: «…вечер открылся вступительным словом Бенедикта Лившица, сравнившего Вагинова с Анахарсисом, а с основным докладом выступил Л. В. Пумпянский. Основной тон выступлений был положительный, но были и нападки со стороны крестьянского поэта Ивана Приблудного». Далее Л. Чертков пишет: «Можно предположить, что Вагинов был не очень доволен докладом, результатом чего оказался последующий конфликт с Пумпянским <���…> Пумпянский же текст доклада уничтожил. А известный нам уцелевший фрагмент его не дает материала для суждений, кроме разве того, что доклад был выдержан в социологическом ключе, что и могло вызвать раздражение поэта». Вечер, о котором идет речь, состоялся 12 марта 1926 года и приурочен был к выходу книжки Вагинова (см.: Осип Мандельштам в дневниковых записях и материалах архива П. Н. Лукницкого // Звезда. 1991. № 2. С. 118–119). Об этом вечере М. М. Бахтин вспоминал также в более поздней беседе с Дувакиным в 1973 г.: «<���…> я помню, было собрание ленинградских писателей, посвященное его поэзии. С докладом о его поэзии выступал Бенедикт Лившиц. Такой он восторженный доклад прочитал о поэзии Вагинова. <���…> Выступал Пумпянский тоже о его поэзии» (Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. М., 1996. С. 199).
Читать дальше