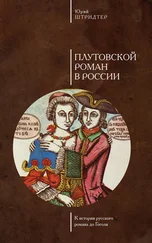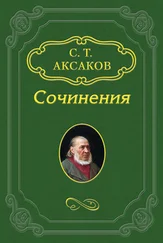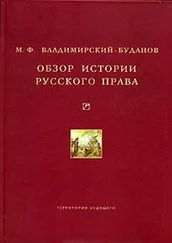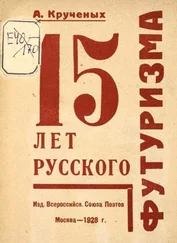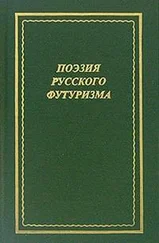От лебезящих штампов
обалдел я до того,
что стал рифмовать
театр и корова !
Это меньший вздор,
чем сны – весны
любовь и кровь –
сплошная у музы
борода!..
(См.: Ziegler R. Briefe von A.E. Kručenyx an A.G. Ostrovskij. S. 7).
В следующем письме он уточняет: «Скандал на вечере Бубнового валета был вызван: 1) принципиальными расхождениями 2) тем, что руководители Бубн<���ового> Вал<���ета> водили нас за нос (обещали напечатать Пощёчину , но все откладывали и откладывали, переговоры вёл преимущественно В. Маяковский и потому он был особенно разозлён). <���…> Насколько помню, это было наше второе выступление (моё и Маяковского)» (см.: Ziegler R. Briefe von A. E. Kručenyx an A. G. Ostrovskij. 5. 8).
Здесь Кручёных не совсем точен, датируя это выступление 1912 г. – об этом свидетельствует и его стихотворение, связанное с 1913, а не 1912 г., и отзывы прессы об этом скандале в 1913 г.: «В числе оппонентов выступал некто… г. Маяковский, ругательски ругавший „валетов“ <���…>» ( Русское слово . 1913. 26 февраля). «Некто Маяковский, громадного роста мужчина, с голосом, как тромбон, заявил, что он, футурист, желает говорить первым. По каким-то причинам выступление Маяковского было, очевидно, не на руку организаторам диспута. <���…> Футурист зычно апеллировал к аудитории: „Господа, прошу вашей защиты от произвола кучки, размазывающей слюни по студню искусства“. Аудитория, конечно, стала на сторону футуриста…» ( Московская газета . 1913. 25 февраля). Здесь цит. по: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. Изд. пятое, дополненное. М.: Советский писатель , 1985. С. 65.
Речь идет о диспутах о современном искусстве, организованных обществом художников «Бубновый валет» в следующем, 1913 г. (12 и 24 февраля) в Большой аудитории Политехнического музея в Москве, под председательством П. П. Кончаловского. На первом из них (12 февраля) М. Волошин прочел доклад «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», что было связано с инцидентом, происшедшим в начале года: психически больной А. Балашов изрезал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Пресса обвинила в этой акции футуристов, что вызвало ряд полемических выступлений с их стороны.
На диспуте 24 февраля с опровержением выступил Д. Бурлюк. Маяковский выступал в тот же вечер в числе оппонентов. В программе этого вечера были доклады И. А. Аксёнова «О современном искусстве» и Д. Бурлюка «Новое искусство в России и отношение к нему художественной критики». В прениях должны были участвовать М. Волошин, А. Лентулов, И. Машков, В. Татлин, Г. Чулков и др.
(10) В подготовленный к печати, но не изданный, четвёртый выпуск «Живого Маяковского» Кручёных включил страничку воспоминаний об этом периоде:
«В 1912 г. я жил с Маяковским на даче под Москвой, в «Соломенной сторожке». Однажды, при поездке в трамвае в те края, случился такой казус: я и Маяковский сели на конечной остановке в пустой вагон, билетов ещё не брали. Подходит кондуктор:
– Возьмите билеты.
Маяковский, смотря прямо в глаза кондуктору, очень убедительно:
– Мы уже взяли.
Кондуктор, озадаченный, ушёл на своё место. Едем. Всё же, через несколько минут, придя в себя, он опять подходит к нам:
– Покажите ваши билеты.
Маяковский рассмеялся, и мы взяли билеты.
Другой раз при подобном же розыгрыше я не выдержал и стал торопливо пробираться вперёд (в вагоне уже были пассажиры). Маяковский мне:
Умейте властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймёт…»
(ОР Музея Маяковского. Ф. Кручёных)
(11) В статье Н. И. Харджиева «Поэзия и живопись» (Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. Указ. соч. С. 16) указана точная дата выхода «Пощёчины общественному вкусу» – 18 декабря 1912 г. В своих «Заметках о Маяковском» он дополняет этот эпизод из воспоминаний Кручёных устным сообщением С. Долинского о том, что Маяковского с ними познакомил его друг скульптор Л. Кузьмин (брат летчика) (см.: Харджиев Н. И. Заметки о Маяковском // День поэзии. М., 1976. С. 172).
(12) Воспоминания создателей манифеста несколько расходятся. Даже Б. Лившиц, участвовавший в сборнике, но не принимавший участия в создании манифеста, отыскал в нём «свою» фразу, однако ошибся в своих остальных догадках: «Кто составлял пресловутый манифест, мне так и не удалось выпытать у Давида: знаю лишь, что Хлебников не принимал в этом участия. <���…> С удивлением наткнулся я в общей мешанине на фразу о „бумажных латах брюсовского воина“, обронённую мною в ночной беседе с Маяковским и почему-то запомнившуюся ему, так как только он мог нанизать её рядом с явно принадлежавшими ему выражениями вроде „парфюмерного блуда Бальмонта“» <���…> (см.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания / Под ред. П. Нерлера, А. Парниса и др. Л.: Советский писатель , 1989. С. 404).
Читать дальше