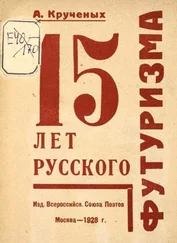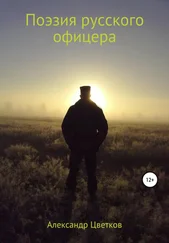Поэзия Д. Бурлюка ориентирована в основном на внешний предмет, на «показ», лирическая медитация сведена в ней до минимума, но определенные лирические мотивы проступают. Во многих стихотворениях Бурлюка, особенно ранних, эти мотивы до банального стереотипны, – какой поэт-урбанист обходился тогда без метаний героя по городу, плача на площади или «у темного угла», показа городских самоубийств – «с этажей в мостовые»? Но не это главное у Бурлюка Его система осваивает расхожий материал в более или менее пародийном ключе, что и порождает свои, особые акценты. К тому же субъект его лирики (если можно о нем говорить) редко предстает как поэт, в своей исключительности, и ценит «безликую прелесть» бытия. Моменты драматического противостояния чему-то иному, враждебному – прозе, обыденности, косным правилам жизни и т. п. – не доводятся до романтического конфликта, как у Маяковского. Стороны проникают друг друга, обнаруживают внутреннее родство, и драматическая нота угасает или уходит вглубь. Стихотворение «Какой глухой слепой старик!..», открывающее в настоящем томе подборку Бурлюка. написано в 1907 году, до всякого футуризма, но оно задает тональность подборке в целом. Можно так или иначе гадать, кто он, этот старик, но, по-видимому, ясно, что для субъекта стихотворения («я») он антипод и в то же время – свое, неотторжимое, почти двойник.
Похожую, в принципе, двойственную структуру наблюдаем в программном для Бурлюка стихотворении «Глубился в склепе, скрывался в башне…» (<1914>). Оно разворачивается поначалу в образно-стилистических нормах поэзии символистского направления (склеп, башня, УЗОР СОЗВЕЗДИЙ, отравленный фиал; скрывался, мечтал, горел, трепетал, соблазнял). Причем пародийный характер первых двух строф практически не осознается, почти не осознается, хотя он задан с самого начала оттенками глагольных значений (глубился, УЛОВЛЯЛ) и протокольностью перечисления «высоких» состояний. Такова система: не поймешь, всерьез он или издевается. Можно прочитать и всерьез. А далее третья строфа, ставшая скандально-известной и способствовавшая репутации Бурлюка – нигилиста и хулигана:
Была душа больна ПРОКАЗОЙ
О, пресмыкающийся раб,
Сатир несчастный, одноглазой,
ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ
И ведь не вдруг появилась эта строфа – она естественно стыкуется с предшествующим стихом «высокого» стиля («Даря отравленный фиал»). Она контрастна по отношению к первым строфам в плане лексическом, но последовательно развивает тему стихотворения, привнося в нее оценочный момент: все эти башни, мечты, сгорания и есть болезнь. Движение темы акцентировано цепочкой выделенных слов: УЛОВЛЯЛ УЗОР СОЗВЕЗДИЙ НО ПРОКАЗОЙ ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ. В таком ключе комментировал самую скандальную строчку стихотворения своего брата Николай Бурлюк: изнуренных жаб, то есть идей. Надо полагать – старых, чужих идей (ср. в другом стихотворении: «Какой позорный черный труп / На взмыленный дымящий круп / Ты взгромоздил неукротимо… / Железный груз забытых слов…»). Однако можно интерпретировать и по-другому. Подчеркнуто плотский смысл явного автопортрета Бурлюка (сатир одноглазый), а также следующее за строфой отточие провоцируют на рискованные прочтения, вплоть до скабрезно-эротического. Б. Лившиц вспоминает признание Бурлюка, что для него все женщины до девяноста лет хороши, а в другом месте, касаясь отношений Бурлюка с женщинами, намекает на возможную сексуальную аномалию. Впрямую это не может быть отнесено к разбираемому тексту, но – кто знает? – футуристы бравировали и таким образом, приоткрывая исподнее, ставили читателя в тупик или разогревали соответствующего рода фантазии. И концовка стихотворения, после отточия, удостоверяя пародийность его структуры, не вносит ясности в зыбкий характер темы – она насквозь двусмысленна и демонстративно возвращает к «высоким» образам начала: «Живи небесная жена» (небесная и жена, понятно, со строчной буквы). У Бурлюка вообще концовки часто «слабые» – банальные или нелепо-претенциозные. Логично предположить, что они намеренно «слабые» – имитирующие примитив.
Возглавив атаки футуристов на классику, Бурлюк сам в своих стихах активно осваивал русскую поэтическую традицию от поэтов XVIII века до К. Случевского, В. Брюсова и А. Белого, не говоря уже о новых французах. Осваивал особым способом. Пародийное начало, присущее его поэзии, сводило счеты с прошлым и укрепляло реноме разрушителя-нигилиста. И оно же, захватывая сферу поэтического «я», приоткрывало другую сторону поэтического сознания Бурлюка, которую в рамках его системы невозможно представить в форме прямого лирического самовыражения. Есть в поэзии Бурлюка нота самоиронии. Есть намек на рефлексию, несовместимую с обликом эстрадного Бурлюка.
Читать дальше