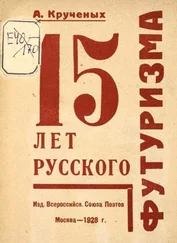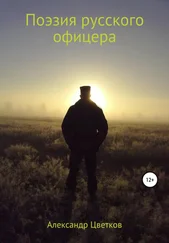В особом имидже не нуждался Хлебников, в нем и без того все было «не так, как у людей».
Елена Гуро настолько слилась с придуманной ею легендой об умершем сыне, что неловко говорить о литературной мистификации. Ее открытая лирическая манера начисто лишена и пародийного начала, очень важного в поэзии и имидже футуристов, – это ставит ее в положение особое, исключительное. И тем поразительнее внутренние токи, которые соединяли ее с самым «дичайшим» из кубофутуристов – с А. Крученых.
Автору этих строк посчастливилось в школьные годы (это было в конце 40-х) познакомиться с Василием Каменским, гостить у него в с. Троица на берегу уральской реки Сылвы. Уже неизлечимо больной, без ног, Каменский оставался источником энергии и жизнелюбия. Его поздние поэмы, особенно «Емельян Пугачев», по мастерству заметно превосходят то, что им сделано в пору прославившего его футуризма. Но и они не слишком-то впечатляют, если читать их глазами, про себя, по печатному тексту. Надо было слышать, как читал Каменский, – пел, голосил, заливался, замирал, отчеканивал ритмы, прихохатывал. Не просто манера исполнения – это было вскрытие той стихийной подосновы, подобной разливу его любимой Камы, которая лишь частично умещалась в русле печатных строк. Каменский-поэт и Каменский-авиатор (актер, охотник и т. д.) – это, в принципе, одно и то же. Не жизнь служила комментарием к стихам, а стихи были главным, но отнюдь не единственным способом реализации энтузиазма, который составлял суть, натуру этого человека, действовавшего в открытую и напоказ.
Критики не без основания сравнивали футуристов с декадентами 1890-х годов, имея в виду перекличку поэтических мотивов и эстрадные. эпатирующие способы их подачи. Вспоминали названия сборников раннего Брюсова: «Chefs d'Euvre»(«Шедервы») и «Me cum esse» («Это – я») – чем не футуризм? Футуристы, шокируя публику, пошли неизмеримо дальше, разрабатывали собственный образ, имидж, негативный по отношению к традициям. Но не все уходило в позу, в намеренно открытые приемы. Имидж – это личина и лицо одновременно. Личина демонстративно подчеркивает какие-то черты, а что-то утаивает – не исключает, а уводит в подтекст. Рассмотрим чуть подробнее, как это проявляется у поэтов, по-разному, но отчетливо озабоченных своим имиджем, – у Д. Бурлюка и Крученых, у Маяковского и Северянина.
В советском литературоведении Давид Бурлюк наряду с Крученых представлен как главное свидетельство разрушительной, нигилистической сущности футуризма, глумления над традициями. Раз за разом цитировались одни и те же строчки Бурлюка: «ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА / а красота кощунственная дрянь» или «„Небо – труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом…». И даже стихи «Каждый молод молод молод / В животе чертовский голод… / Будем лопать пустоту…» оценивались как дикарство и цинизм, обычно без указания, что это переложение А. Рембо. Совсем на отшибе оказывалась, в качестве сугубо личной оценки, сердечная характеристика Бурлюка, сделанная Маяковским («Я сам»), и практически игнорировался яркий и убедительный образ Бурлюка в «Полутораглазом стрельце» Б. Лившица.
В восприятии современников Д. Бурлюка-поэта затмевал тот же Д. Бурлюк – вызывающий художник и герой скандальных футуристических выступлений. Но поэт существовал, и как раз Б. Лившиц в своих воспоминаниях отмечает главные признаки его ранних, до 1911 года, стихов: «Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо» [30] Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 312.
. Уроки Корбьера и Рембо в данном контексте означают четкость и определенность формы, тогда как у Бурлюка важнее были «сдвиги» формы, непривычное взаимодействие элементов. «Незавершенность» стихов Бурлюка может и сегодня произвести впечатление профессиональной неумелости автора, но Бурлюк в дальнейшем своем развитии, после 1911 года, усвоив на свой манер тех же французских «проклятых поэтов», не уменьшил, не сгладил, а, наоборот, усилил эти «сдвиги» и «ошибки», обнажил их намеренный характер. Архаические («высокого» стиля) и подчеркнуто грубые или обиходно-прозаические слова и обороты у Бурлюка перемешиваются в едином потоке. Если при этом ломается синтаксис и снимается пунктуация, то это даже не поток, а «словесная масса». В «непрерывности словесной массы», подчеркнутой отсутствием знаков препинания, футуристы видели космическую сущность. «Погружение в стихию языка» для них – это «не архаика, а практика космологии, не допускающая для себя никакого измерения временем» [31] Там же. С. 488.
.
Читать дальше