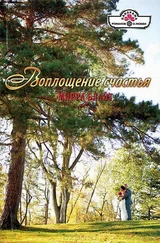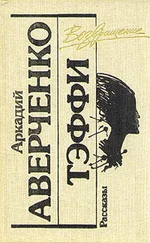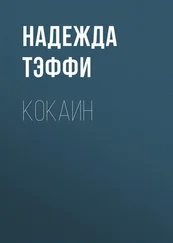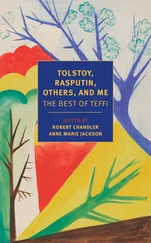Колышутся водные дали,
Тоскующий слышен напев.
Уснула принцесса Джемали
В тени апельсинных дерев.
Ей снится певец синеокий,
Влюбленный в простор и туман,
Уплывший на север далекий
От зноя полуденных стран.
Забывший для смутной печали
Весну очарованных дней.
И плачет принцесса Джемали
В цвету апельсинных ветвей.
И медленно шагом усталым
К ней идет нарядный гонец,
Смиренно на бархате алом
Он держит жемчужный венец:
«Проснитесь, принцесса, для трона,
Забудьте весенние сны,
Вас ждет и любовь, и корона
Владыки восточной страны.
Пред гордой султаншей Джемали
Во прахе склонятся рабы.
Пред вами широкие дали,
Над вами веленья судьбы…»
Имя «Джемали» (вариант «Джамиле») неоднократно встречается у Лохвицкой и служит одним из знаков стихотворной переклички с Бальмонтом. Первым в этом ряду стоит ее стихотворение «Джамиле» (1895 г.), имя героини было использовано Бальмонтом в стихотворении «Чары месяца» (1898) – см. переписку Лохвицкой с Коринфским (письмо XXI). Позднее поэтесса использовала имя Джемали в «Сказке о принце Измаиле, царевне Светлане и Джемали Прекрасной» и в стихотворении «Волшебное кольцо» (V, 45).
«Певец синеокий», «уплывший на север далекий» – прямое указание на Бальмонта, в сентябре 1896 г. впервые надолго уехавшего в Европу. Первые наброски этого, так и оставшегося незаконченным, стихотворения, относятся к 1896 г. В первоначальном варианте стихотворение обрывается на словах: «Не пара для белой голубки // Скиталец морей альбатрос…» (см. предыдущую записную книжку – РО ИРЛИ ф. 486, ед. хр. 3, л. 80).
«Ты замечал, как гаснет пламя…»
Ты замечал, как гаснет пламя
Свечи, сгоревшей до конца,
Как бьется огненное знамя
И синий блеск его венца?
В упорном, слабом содроганье
Его последней красоты
Узнал ли ты свои страданья,
Свои былые упованья,
Свои сожженные мечты?
Где прежде свет сиял отрадный,
Жезлом вздымаясь золотым,
Теперь волной клубится смрадной
И воздух наполняет дым.
Где дух парил – там плоть владеет,
Кто слыл царем, тот стал рабом,
И пламя сердца холодеет,
И побежденное, бледнеет,
Клубясь в тумане голубом.
Так гибнет дар в исканье ложном,
Не дав бессмертного луча
И бьется трепетом тревожным,
Как догоревшая свеча.
1899 г. – время начала ухудшения отношений Лохвицкой с Бальмонтом, когда поэтессе казалось, что чувство изжито.
«Где дух парил – там плоть владеет…» – Намек на изменившийся стиль поэзии Бальмонта, отразившийся в его сборнике «Горящие здания», в которому на смену прежнему печально-«лунному» настроению пришло новое – «пламенное», агрессивное, жизнеутверждающее.
В сумраке тонет гарем,
Сфинксы его сторожат,
Лик повелителя нем,
Вежды рабыни дрожат.
Дым от курильниц плывет,
Сея душистую тьму,
Ожили сфинксы и – вот,
Тянутся в синем дыму.
В воздухе трепет разлит,
Душный сгущается чад,
Глухо по мрамору плит
Тяжкие когти стучат.
Никнет в смятенье чело,
Легкий спадает убор.
«Любишь?» – «Люблю!» – тяжело
Властный впивается взор.
Синий колеблется пар,
Свистнула плетка у ног.
«Любишь?» – «Люблю!» – и удар
Нежное тело обжег.
Огненный вихрь пробежал,
В звере забыт человек.
«Любишь?» – «Люблю!» – и кинжал
Вечное слово пресек…
«Михаил мой – бравый воин…»
Михаил мой – бравый воин,
Крепок в жизненном бою.
Говорлив и беспокоен.
Отравляет жизнь мою.
Мой Женюшка – мальчик ясный,
Мой исправленный портрет.
С волей маминой согласный,
Неизбежный как поэт.
Мой Володя суеверный
Любит спорить без конца,
Но учтивостью примерной
Покоряет все сердца.
Измаил мой – сын Востока,
Шелест пальмовых вершин,
Целый день он спит глубоко,
Ночью бодрствует один.
Но и почести и славу
Пусть отвергну я скорей,
Чем отдам свою ораву:
Четырех богатырей!
На момент написания этого шуточного стихотворения старшему сыну поэтессы не более семи-восьми лет, младший (Измаил) – еще грудной ребенок. Второму (видимо – самому любимому) сыну Евгению посвящено стихотворение Лохвицкой «Материнский завет», в котором она завещает ему путь поэта. Черноглазый и смуглый Измаил вдохновлял мать своей «восточной» внешностью – ему посвящены стихотворения «Плач Агари» (V, 35) и «Бяшкин сон» (Лохвицкая М. А. Перед закатом. СПб. 1908. С. 55). Два стихотворения последнего года жизни поэтессы посвящены самому младшему сыну, Валерию, здесь не упомянутому, поскольку его еще не <600> было на свете («Злая сила», «Колыбельная песня» – «Перед закатом», С. 29, 41).
Читать дальше
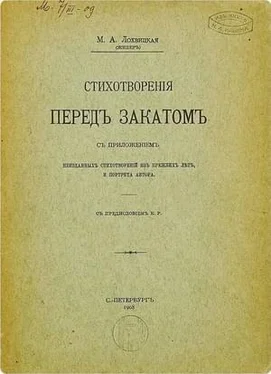

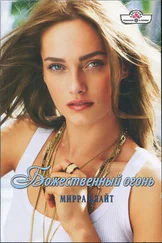
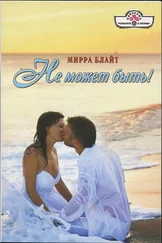
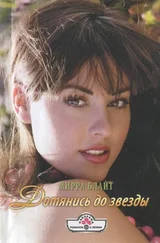
![Надежда Лохвицкая - Юмор начала XX века [сборник]](/books/180489/nadezhda-lohvickaya-yumor-nachala-xx-veka-sbornik-thumb.webp)